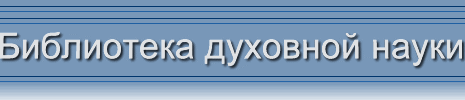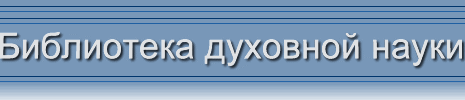Автореферат лекции
"Антропософия в современном мире" 2003 г.
О том, что Рудольф Штайнер читал произведения Николая Васильевича Гоголя и особым образом высказывался о нем, мало кто знает. Я не имею в виду то, что он говорил о Н.В.Гоголе, Ф.М.Достоевском и Л.Н.Толстом в декабре 1912 года Асе Тургеневой. Его высказывание, в котором речь идет лишь о Гоголе, содержится в статье "Литература и духовная жизнь в XIX-ом веке", опубликованной в трех частях с 1898 по 1900 год. В третьей части, написанной, очевидно, в 1900 году, идет речь о Гоголе. Здесь говорится: "Сколь бездонно глубок и в то же время сновидчески сбивчив Дух народа, показывают творения Николая Гоголя, бросившего в лицо своему отечеству ужаснейшие обвинения, в которых сквозит глубокая, сердечная любовь. В основе его представлений лежит мистическое чувство. Неутомимо толкает оно его вперед, несмотря на то, что он не видел перед собой какой-либо ясной цели". (GA 33 стр.111)

Каждый человек, который глубоко знает Гоголя, наверное согласится, что это характеризует нечто существенное в нем, ибо для многих Гоголь - это не только одаренный писатель-новеллист и сатирик, писавший с большой фантазией. Позже, под влиянием внутреннего кризиса, он стремился стать моралистом, что вредило его художественному таланту и даже подавляло его. Обо всем этом нет ни слова у Штайнера; наоборот, на первый план Штайнер выдвигает именно те моменты, которые обнаружились лишь после первых, более или менее внешних успехов "Вечеров на хуторе близ Диканьки" и "Ревизора", - моменты, которые выражены прежде всего в "Выбранных местах из переписки с друзьями". Это неутомимое стремление вперед, о котором говорит Штайнер, начинается с путешествия Гоголя заграницу летом 1836 года, вскоре после премьеры "Ревизора" в Петербурге, состоявшейся 19-го апреля того же года.
Глубоко впечатляет, как Штайнер высказывается о Духе народа, о Духе русского народа, о "глубинах собственного национального существа" в связи с Гоголем. Все вы знаете те возвышенные слова Штайнера из первого обращения к русским 11 апреля 1912 года, в которых он говорит о том, как он познакомился с душой русского народа. То, что русская народная душа тогда, около 1900 года, могла высказать, "предстало передо мной трагичнее всего", ибо мало еще понимают ее русские авторы (поэты, прозаики, философы).
Итак, о несчастьи русской народной души, чья духовная субстанция так мало отражена в творчестве русских писателей, особенно интенсивно сообщалось Штайнеру около 1900 года. Вероятно, мы не ошибемся, предполагая, что это глубокое восприятие несчастья русской народной души связано с переходом через порог смерти Владимира Соловьева (31 июля (12 августа н. ст.) 1900 года). Ибо из бесед Штайнера с Асей Тургеневой в 1912,1913 годах мы знаем, что Соловьев мог бы и должен был быть еще более великим, чем он был. Кроме того, из лекции 9-го февраля 1912 года мы знаем, что Штайнер уже до 1900 года оккультным путем ощущал воздействие земного творчества Соловьева, не зная его произведений, ибо тогда еще ничего не было переведено на немецкий язык ни из творчества Соловьева, ни о нем самом. Соответственно, Соловьев не упоминается и в статье Штайнера "Литература и духовная жизнь в XIX-ом веке".
Штайнер оккультно ощущал, что сияющий элемент души Соловьева не мог выразиться полностью, т. к. сдерживался его интеллектом. О земной личности Соловьева Штайнер узнал, очевидно, лишь благодаря написанной на немецком языке диссертации Федора Степуна, которая вышла в свет в 1910 году.
Теперь понятно, откуда исходит та духовная меткость, с которой Штайнер характеризует Гоголя: он видит его в свете импульсов русской народной души, т. е. иерархического существа. Его характеристика - результат духовного исследования. Цель данной публикации состоит в том, чтобы подчеркнуть те моменты биографии Гоголя, которые могут разъяснить и проиллюстрировать эту характеристику Штайнера.
Сначала мне хотелось бы остановиться на комедии Гоголя "Ревизор". В обстоятельствах постановки этой комедии, в опыте, который при этом получил Гоголь, в его внутренней реакции на восприятие комедии публикой уже видны некоторые из моментов, на которые указывает Штайнер. Кроме того, мы должны иметь в виду, что позже Гоголь оценивал "Ревизора" иначе: он хотел, чтобы комедию понимали, как образ человеческой души, которая приближается к небесному суду, а следовательно, как мистериальную игру. Гоголь взял с собой "Ревизора", так сказать, в более позднюю фазу жизни. Но то, что он не намеревался лишь сатирически представить пороки тогдашнего русского общества, было ясно с самого начала.
С внешней точки зрения первое исполнение "Ревизора" было успешным. Публика смеялась, представление было встречено аплодисментами, билеты на последующие спектакли были распроданы, о комедии говорил весь город. Но даже если иметь в виду только внешний успех, сегодня трудно понять недовольство Гоголя самим собой, актерами, публикой.
Кажется, что он надеялся на что-то другое и не мог понять, почему он восстановил всех против себя. В письмах, которые были написаны сразу после первого исполнения, речь идет о том, что он от души любит свое отечество и своих соотечественников. Может показаться излишне эмоциональным решение Гоголя уединиться, т.е. совершить путешествие заграницу, вместо того, чтобы поехать в Москву и позаботиться об исполнении "Ревизора" там.
Однако в нем появляется решимость принять свою судьбу. В письме от 15 мая 1836 года говорится: "Все, что ни делалось со мною, все было спасительно для меня. Все оскорбления, все неприятности посылались мне высоким провидением на мое воспитание. И ныне я чувствую, что не земная воля направляет путь мой".
И как поиски задачи собственной судьбы, Гоголь относит к самому себе слова Иисуса. Эти слова есть с вариациями во всех четырех Евагелиях; в Евангелии от Иоанна они гласят: "Пророк во своем отечествии чести не имать". Очевидно Гоголь ориентировался на текст Евангелия от Иоанна, когда вольно изложил их в письме от 10 мая 1826 года: "Пророку нет славы в отчизне".
Существует еще одно свидетельство, которое подтверждает, что Гоголь получил импульс создать "Ревизора" из глубины души. Через два дня после того, как он закончил комедию, 6 декабря 1835 года он писал Погодину: "Уже не детские мысли, ... но высокие, исполненные истины и ужасающего величия мысли волновали меня... Мир вам, мои небесные гости, наводившие на меня божественные минуты в моей тесной квартире ... Вас никто не знает. Вас вновь опускаю на дно души до нового пробуждения, когда вы исторгнетесь с большею силой..." Такие возвышенные ощущения довольно часто прослеживаются в письмах Гоголя после душевной перемены летом 1840 года. Они сохраняются у него до самой смерти.
Эта душевная перемена случилась во время пребывания Гоголя в Вене с июня по август 1840 года. Он серьезно заболел. Его жизнь была в опасности. О видениях, которые его посещали в то время, он рассказывал ухаживавшему за ним Николаю Боткину. Боткин не фиксировал эти рассказы в письменной форме, но упоминания о них мы находим в более поздних письмах самого Гоголя. Всеволод Сечкарев, автор вышедшей в 1953 году работы о жизни и творчестве Гоголя, в основном прав, оценивая значение этих видений следующим образом: "Его новая мистическая вера извлекает свою незыблемую твердость и уверенность из этого таинственного видения; отныне Гоголь чувствует себя избранником, на чью долю выпало великое спасение; его призвание к нравоучению, его пророческое призвание стали для него новым убеждением. Не искусство как таковое теперь смысл его существования, оно только средство, чтобы открыть людям их слепые глаза для правды. Огромная ответственность лежит на том, кому Бог дал гениальность ... Ему как религиозному мыслителю удается создать крайне замечательную и цельную систему ... С момента переживаний в Вене беспрестанно усиливается мистически-религиозное настроение Гоголя. С абсолютной уверенностью он держится своей новой веры, которая ему дает возможность выступить не только поэтом, за чьё вдохновение он постоянно опасался, но и учителем и пророком".
Позже мы рассмотрим это подробнее. Здесь мне хочется только добавить, что, очевидно, и переживание Христа или начало пути к такому переживанию были частью венских видений. Кроме того, у Гоголя зародилось представление о повторных земных жизнях или принуждение мыслить в этом направлении.
В любом случае, мы имеем дело с внетелесными переживаниями души. Р.Штайнер говорит о "мистическом чувстве", которое лежит в основе его представлений; к этому можно добавить, что это чувство возникло у Гоголя не в Вене, но лишь проявилось там в полном объеме, оставаясь ранее на заднем плане.
Эти видения, конечно, не объясняются случайными болезненными процессами в организме Гоголя. Наоборот: внутренняя необходимость достичь внетелесных переживаний привела к заболеванию, сопровождающему появление мистических переживаний. Гоголь не стал чуждым себе, он стал более самим собой, чем был раньше.
Как я уже сказал, намеки на задатки мистического чувства мы находим в Гоголе уже до лета 1840 года. Но не будем подробно останавливаться на этом. Рассмотрев некоторые факты, связанные с рождением Гоголя, мы увидим, что он вступил на свой жизненный путь с достаточным импульсом, чтобы придти к этим венским переживаниям.
Из данных Р.Штайнером описаний сверхчувственных приготовлений инкарнации мы знаем, что а тех обстоятельствах, при которых будущие родители находят друг друга, уже до рождения действуют импульсы стремящейся к инкарнации индивидуальности. Из рассказа матери Гоголя известно, что его отец в двух сновидениях получил указание на его будущую жену от Царицы небесной: в первый раз, когда ей было только семь лет (в 1791 году), и затем, когда ей было 14 лет (в 1805 году). Оба раза отец Гоголя видел себя в монастырском храме в Ахтырке, куда он в 1791 году совершал паломничество; Царица небесная выходила из алтаря и показывала ему его будущую жену.
Вопрос о том, какие духовные процессы стоят за этими образными рассказами, остается открытым. Но из этих двух сновидений явствует одно: заключение жизненного союза родителей Гоголя было в высшей степени лишено земных соображений и земных страстей; наоборот, оно послужило тому, чему суждено было осуществиться по духовной необходимости. Смыслом этого жизненного союза было в первую очередь создание для индивидуальности Гоголя телесной основы, но, что еще важнее, - той духовно-душевной атмосферы, в которой Гоголь мог получить нужные ему импульсы развития.
Вскоре после второго сновидения 12 ноября 1805 года, когда будущей матери Гоголя было 14 лет, состоялась свадьба. Отец Гоголя не сразу, но все-таки привез ее в родное село Васильевку. Мне кажется, что имеет большое значение еще одно обстоятельство появления Гоголя на свет. Дело в том, что у его матери уже дважды ребенок рождался мертвым; и когда ей предстояли новые роды, родители просили священника соседнего села Диканьки, где находился чудотворный образ святого Николая, молиться до тех пор, пока ему не сообщат о счастливом событии. Мать дала обет назвать своего ребенка Николаем, если у нее родится сын. Рождение мальчика 20 марта 1809 года прошло удачно, но все-таки новорожденный был необычайно слаб и худ; за его жизнь еще долго опасались.
Итак, духовные импульсы приготовлений к инкарнации были довольно сильны; но проблема индивидуальности Гоголя состояла в том, чтобы создать для себя необходимую телесную основу. И это, очевидно, предвосхитило многое из того, что происходило потом в жизни Гоголя. Два самых важных факта его жизни: полное пробуждение мистического чувства летом 1840 года и постоянная, омраченная болезнями и депрессиями борьба за завершение миссии. Следует ли толковать эти два случая мертворождения как неудавшиеся попытки индивидуальности Гоголя создать для себя телесную основу? Если да, то это означало бы, что он прошел к инкарнации через переживание смерти в утробе матери.
Обратимся теперь к душевным переживаниям Гоголя во время болезни в Вене и позже, во время его последующих болезненных состояний. Что они повлекли за собой? Гоголь узрел человека как такового и себя самого в свете духовного мира. Он заметил, как слабо развиты в человеке нравственные качества, как сильны негативные побуждения, как притягательно самообольщение, желание предаться иллюзиям в отношении самого себя. Но он увидел в человеке и желание быть или стать лучше. В письмах к Жуковскому он выразил это в возвышенных словах: "Чище горнего снега и светлей небес должна быть душа моя..."
В дальнейшем он переживал, что значит переступить порог смерти. Он познал, что значит оказаться перед духовным миром с пороками и слабостями, которые в земной жизни рассматриваются до какой-то степени как неизбежные и простительные.
Более точно Гоголь высказывается об этом в написанном в октябре 1846 года эпилоге к "Ревизору" "Развязка "Ревизора". В конце этого эпилога он вкладывает в уста Первому комическому актеру то, что исходит от него самого. Гоголь сам дает ключ к "Ревизору": "... страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба ... Ревизор этот - наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что по именному высшему повеленью он послан, и возвестится о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать назад. Вдруг откроется перед тобою, в тебе же, такое страшилище, что от ужаса подымется волос. Лучше ж сделать ревизовку всему, что ни есть в нас, в начале жизни, а не в конце ее". Итак, через своего Первого комического актера Гоголь призвал к своевременному нравственному самопознанию.
Все эти элементы мы знаем из сообщений духовной науки о Страже порога. Очевидно, что Гоголь в своем внетелесном переживании достаточно близко подошел к Стражу порога, не будучи в состоянии дать отчетливое и объективное представление этого духовного существа. Но мы можем быть уверены, что Гоголь в "Развязке "Ревизора" не дал своему произведению иного толкования. Ибо те побуждения, которые, начиная с 1840 года, привели его в сферы, близкие к Стражу порога, действовали в нем уже и тогда, когда он писал "Ревизора". Позже он достиг лишь более глубокого понимания самого себя, собственного творчества, и было бы неоправданно говорить о его разрыве с предыдущей жизнью.
О переживаниях души после смерти Гоголь говорит в своем "Завещании", написанном в 1845 году, которое он, как первую главу, включил в "Выбранные места из переписки с друзьями": "... Соотечественники! Страшно! ... Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений Бога, перед которыми пыль все величие его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся ..." Сразу после этого он уверяет своих соотечественников в своей глубокой любви; она была ему в радость и утешение среди его наитягчайших страданий.
Второй раз он ощутил ужас перехода через порог, когда 26 января 1852 года, незадолго до его собственной кончины, умерла Екатерина Михайловна Хомякова, сестра поэта Языкова и жена Алексея Хомякова; ее неожиданная смерть поразила Гоголя. Дочь Сергея Аксакова рассказывает, что Гоголь четыре дня спустя попросил отслужить панихиду по ней в своем приходе: "...Помянул и всех прежних друзей, и она как бы в благодарность привела их так живо всех передо мой. Мне стало легче. Но страшна минута смерти". Дочь Аксакова заканчивает свой рассказ тем, что, несмотря на это, Гоголь "сделался спокоен, как-то светел духом, почти весел".
Люди, которые проходили через переживание близости смерти, рассказывают нечто подобное. Это не фантазии эксцентричной и экзальтированной натуры; мы имеем дело с оккультными, сверхчувственными переживаниями.
Я уже цитировал место из одного письма Гоголя, из которого явствует, насколько отчетливо видел он перед собой цель совершенствования души. Откуда исходит это побуждение, он пишет в письме 1843 года, которое включает в "Выбранные места из переписки с друзьями": Бог "поселил мне также в душу, уже от рождения моего, несколько хороших свойств; но лучшее из них было желание быть лучшим". Сразу после этого он конкретизирует: в нем усиливалось желание избавляться от дурных качеств. Многие склонны считать подобные высказывания избитыми фразами набожного человека, который теряется в елейных выражениях. Нельзя отрицать, что Гоголь иногда отнюдь не по-братски, высокомерно критиковал окружающих его людей (что противоречит его уверениям в собственной незначительности). Его убеждение в том, что задатки к совершенствованию души происходят от Бога, можно объяснить его венскими переживаниями и их последствиями. Нравственные феномены для Гоголя - не плоды человеческой культуры, привитые человеку другими людьми, они дарованы ему Божеством. Ему также стало ясно, что у него появилась способность переживать собственные чувства глубже, а радость и горе других интенсивнее, чем обычно.
В письме от февраля 1842 года к Марье Балабиной он говорит о только что закончившейся болезни, приведшей его в состояние, подобное венскому. Он "почувствовал волнение, которое всякий образ, пролетавший в мыслях, обращало в исполина, всякое незначительно-приятное чувство превращало в такую страшную радость, какую не в силах вынести природа человека, и всякое сумрачное чувство претворяло в печаль, тяжкую, мучительную печаль, и потом следовали обмороки: наконец, совершенно сомнамбулическое состояние".
Девять месяцев спустя он пишет ей же, что "награжден от Бога даром живо чувствовать в собственной душе радости и горе, чувствуемые другими, что другие чувствуют только вследствие одного тяжелого опыта".
В антропософском университетском курсе в марте 1921 года Р. Штайнер говорит о том, что после развития имагинативого представления надо преодолеть бездну, чтобы прийти к инспи-ративному представлению; только преодолением этой бездны можно достичь духовной реальности; при этом чувства становятся интенсивнее, чем в обыденной жизни. Этим нам дано основание, чтобы понять, в какие сферы духовного переживания продвинулся Гоголь, при этом мы должны отдавать себе отчет в том, что имеем дело не с достигнутыми духовным ученичеством переживаниями, но с переживаниями, управляемыми судьбой, высшим Я.
Я хотел бы процитировать еще одно знаменательное место из письма от января 1842 года, тоже адресованного Марье Балабиной: "Вижу знакомые, родные лица; но они, мне кажется, не здесь родились, а где-то их в другом месте, кажется, видел; ... что ужасно - что в этой голове нет ни одной мысли, и если вам нужен теперь болван для того, чтобы надевать на него вашу шляпку или чепчик, то я весь теперь к вашим услугам". В письме от февраля 1842 года речь идет о болезни, так что мы можем отнести эти переживания к болезненному состоянию. Гоголь чувствует себя со своим душевным переживанием вне тела; он освободился от иллюзии, что тело вызывает душевное переживание. У него появилась способность переживать тело как нечто, отделенное от души. Для него независимость душевного переживания от тела стала уверенностью. Но еще знаменательнее начало цитаты. Я не могу его объяснить иначе, как тем, что Гоголь, переживая действительность повторных земных жизней человека духовным образом, в своем обычном Я не мог отдавать себе в этом отчет. Культурные препятствия его времени, и прежде всего его привязанность к православию, не позволяли ему привести стоящее за этим духовное переживание к большей ясности. Слишком революционным было бы то, что Гоголь мог здесь обнаружить.
О своем переживании Христа Гоголь писал в двух текстах 1847 года. Первый из них - письмо к Шевыреву от 30 января 1847 года: "Анализ над душой человека таким образом, каким его не производят другие люди, был причиной того, что я встретился со Христом, изумясь в нем прежде мудрости человеческой и неслыханному дотоле знанью души, а потом уже поклонясь божеству его".
Другой текст был издан лишь в 1855 году Шевыревым же из наследия, причем Шевырев дал ему название "Авторская исповедь": "Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. Все, что только выражало познанье людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустынника, меня занимало, и на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в нем ключ к душе человека и что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познанья душевного, на которой стоял он". "...Я пришел к тому, который один полный ведатель души и от кого одного я мог только узнать полнее душу".
Это не требует комментария. Гоголь открывает в этих высказываниях свои самые сокровенные мысли. Его друзья говорили о его религиозной экзальтированности; Шевырев критиковал его: он, Гоголь, видит во всяком жизненном обстоятельстве Бога, ему указующего, в то время как надо сперва заслужить "это высокое состояние пророка". Шевырев подозревает его в приверженности к католицизму. В ответ на эти упреки Гоголь написал ему письмо с высказыванием о своем самостоятельном переживании Христа, которое - подчеркивает Гоголь - ничего общего с католицизмом не имеет.
На писательскую деятельность Гоголя его мистические переживания имели большое влияние. Вы, наверное, знаете, что Гоголь несколько раз - по всей вероятности, три раза - сжигал существующие в тот момент наброски ко второму тому "Мертвых душ". Время первого сожжения неизвестно. Второе сожжение было летом 1845 года. Об этом Гоголь сам рассказывает в 18-ой главе "Выбранных мест из переписки с друзьями" (письмо 1846 года): "Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным". В третий раз он сжег то, что оставалось от второго тома, ночью с 11-го на 12-ое февраля 1852 года, т.е. незадолго до своей смерти.
Здесь мы имеем дело не с обычной неудовлетворенностью писателя первыми набросками. Объяснить эти действия неизбежными депрессивными расстройствами также не достаточно. Гоголь сам сообщает, чего он ожидал от сожжения летом 1845 года. Он говорит о необходимости этого. Однако это не земная необходимость, а чувствуемая из духовного переживания. Он мог бы и просто выбросить существующие листы. Но он переживал процесс сожжения как процесс воскресения, как возможность подхода к новому, более высокому началу. О духовных условиях, при которых писал Гоголь, становится ясно из признания, которое он сделал А.О. Смирновой-Россет: "Когда я пишу, очи мои раскрываются неестественною ясностью. А если я прочитаю написанное еще неоконченным, кому бы то ни было, ясность уходит с глаз моих. Я это испытывал много раз. Я уверен, когда сослужу свою службу и окончу, на что я призван, то умру. А если выпущу на свет несозревшее или поделюсь малым, мною совершаемым, то умру раньше, нежели выполню, на что я призван на свет".
Итак, Гоголю были духовно предопределены условия для плодотворного творчества; и он ощущает очень тесную связь этого творчества со своим земным существованием. Дело не только в том, что он предъявлял высокие требования к себе; дело в том, что он ощущал эти требования как нечто объективно над ним стоящее, чему он должен подчиниться.
Возникает, конечно, вопрос, следует ли рассматривать сожжение "Мертвых душ" 11-12 февраля 1852 года и смерть (21 февраля 1852 года) как осуществление одной возможности. Собственно говоря, ничто не говорит против того, чтобы на этот вопрос ответить положительно. Ибо здесь действуют не психические расстройства, но духовные необходимости.
Как упоминалось в начале, я поставил себе целью представить материал, который мог бы иллюстрировать данную Р. Штайнером характеристику Гоголя. Один из элементов этой характеристики - то "мистическое чувство", которое лежит в основе представлений Гоголя. Обратимся теперь ко второму элементу. Гоголь бросает в лицо своему отечеству "ужаснейшие обвинения, в которых сквозит глубокая, сердечная любовь".
Для иллюстрации этого высказывания я выбрал пять тесно связанных друг с другом текстов. Это - три письма, которые в ноябре и декабре 1844 года Гоголь написал Николаю Языкову. Первые два письма в переработанной форме он включил в свои "Выбранные места из переписки с друзьями" как 15 главу, озаглавив ее "Предметы для лирического поэта в нынешнее время".
Когда в конце июня 1839 года в Ганау Гоголь лично познакомился с Языковым, имя Языкова ему уже было знакомо. Гоголь давно знал его стихотворения и причислял его к своим любимым поэтам. Они несколько раз встречались до возвращения поэта в Москву в августе 1843 года; месяцы с июля по сентябрь 1841 года они провели вместе на австрийском курорте Гастейн. От их переписки сохранились 45 писем Гоголя и 30 писем Языкова. Поэтическое творчество Языкова Гоголь прослеживал внимательно и с внутренним сочувствием. Но ни одно из его стихотворений не привело его в такой восторг, как стихотворение "Землетрясенье", которое Языков написал в апреле 1844 года. Произведенное им впечатление побудило Гоголя написать упомянутые три письма, которые и он, и Языков считали достойными быть напечатанными.
Тема стихотворения - раннехристианская легенда о возникновении гимна "Трисвятое" "Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас". В сентябре 437 года в Константинополе произошло страшное землетрясение; запуганный народ, собравшись вокруг своего епископа Прокла, молился Богу, прося Его прекратить это тяжелое испытание. "Вотще", - говорится в начале третьей строфы. - "Их вопли и моленья/ Господь во гневе отвергал". Вдруг мальчик был перенесен на небо и услышал, как ангелы поют там "Трисвятое". Когда мальчик сообщил этот гимн народу и народ запел его, землетрясение прекратилось.
Языкову, разумеется, легенда, как таковая, не была важна; он хотел через нее показать свое понимание поэтической сущности: "Так ты, поэт, в годину страха/ И колебания земли/ Носись душой превыше праха/ И ликам ангельским внемли,/ И приноси дрожащим людям/ Молитвы с горней вышины,/ Да в сердце примем их и будем/ Мы нашей верой спасены".
Поэт - пророк, провозвестник воли Божьей. Этот мотив известен прежде всего благодаря стихотворению Пушкина "Пророк"; оно было, кстати, любимым стихотворением Гоголя. Мальчика нельзя назвать пророком. Но обоим доступен духовный мир, оба хотят помочь народу. Не удивительно, что это стихотворение восхитило Гоголя. Оно соответствовало тому, что Гоголь считал своей миссией: указать соотечественникам, находящимся во власти иллюзий по отношению к самим себе, путь к спасению. В письмах Гоголь не сообщает о том, что он нашел свое призвание подтвержденным этим стихотворением, но дает Языкову советы, импульсы к его дальнейшему развитию. Он намекает на то, что цель его деятельности является той же, только средства разные.
"...Отыщи в минувшем событье подобное настоящему, заставь его выступить ярко и порази его в виду всех, как поражено было оно гневом Божьим в свое время; бей в прошедшем настоящее, и в двойную силу облечется твое слово: живей через то выступит прошедшее и криком закричит настоящее. Разогни книги Ветхого завета: ты найдешь там каждое из нынешних событий, ясней как день увидишь, в чем оно преступило пред Богом, и так очевидно изображен над ним совершившийся Страшный суд Божий, что встрепенется настоящее".
Совершенно ясно, что Гоголь основательно изучал книги ветхозаветных пророков; и он заметил сходство между тем временем и своим настоящим. Языков должен был вдохновиться ветхозаветными пророками, взять на себя исполнение подобной задачи для настоящего, разъяснить свои цели ссылками на тогдашние обстоятельства времени.
Гоголь перечисляет, в частности, какие группы населения Языков должен порицать. Сам воспламенившись, он взывает к Языкову: "На колени перед Богом, и проси у него Гнева и Любви! Гнева - против того, что губит человека, любви - к бедной душе человека ... Найдешь слова, найдутся выражения, огни, а не слова, излетят от тебя, как от древних пророков, ... если только, подобно им, посыпав пеплом главу, раздравши ризы, рыданьем вымолишь себе у Бога на то силу и так возлюбишь спасенье земли своей, как возлюбили они спасенье богоизбранного своего народа".
Как уже было сказано, эти указания учитывали поэтическую суть Языкова. Они не должны были ставить чуждые Языкову требования, ибо у того уже были в какой-то мере задатки к той программе, к которой Гоголь сознательно хотел его привести. В стихотворении Языкова "Поэту" (1831 год) речь идет, например, об "огнедышащем слове" поэта, который характеризуется как "пророк". Языков написал уже два подражания псалмам (14-ому и 136-ому в 1830 году). Но Гоголь требует намного большего. В первую очередь он хочет, чтобы Языков взял на себя задачу обличения и призвания к нравственному самосовершенствованию, т.е. ту же задачу, которую давно уже познал, как свою. Здесь можно говорить о призвании свыше: мы ведь знаем, что это не произвольная причуда Гоголя, но его высшие познания.
Должно произойти нечто вроде обновления ветхозаветного пророчества. Языков должен, как поэт, включить ссылки на ветхозаветные пророчества в свои поэтические творения. Гоголю же, как прозаику, это не принесло бы пользы. Но ветхозаветные пророчества и для него являются основой его самоощущения.
Возникает вопрос о возможности прийти в области ветхозаветного пророчества к более конкретным высказываниям. Обращает на себя внимание, что Гоголь пользуется словом "огонь" как метафорой пророческого вдохновения. В первый момент можно подумать, что в Библии, вероятно, найдется много подобных мест. Можно ли каким-либо иным средством более образно выразить, из какого внутреннего импульса написаны книги Библии? Но приступив конкретно к выяснению вопроса, где конкретно в Библии используется слово "огонь" как метафора пророческого вдохновения - я подчеркиваю не как метафора присутствия Бога или действия Бога - то приходишь к неожиданному результату: существуют лишь три места, и все три места находятся в книге пророка Иеремии. Я процитирую это. (Иер. 5,14): Господь: Я сделаю "мои слова в устах твоих огнем". (Иер. 20,9): "Но сказал я: Я больше не хочу думать о нем и говорить во имя Его, то было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в душе моей". (Иер. 23,29): Господь: "Слово мое не подобно ли огню...?" Когда у Пушкина Божество говорит пророку: "Глаголом жги сердца людей", - это почерпнуто из Иеремии (не из Исайи).
Иеремия был свидетелем гибели царства Иуды. Он не мог предотвратить ее своей пророческой деятельностью, к которой он был призван в 627 году. В 597 г. в первый раз был осажден и завоеван Иерусалим, в 587 (или 586) году он был завоеван во второй раз, были разрушены город и храм, а большая часть населения депортирована в Вавилон (сам Иеремия не был депортирован). Читая книгу пророка Иеремии, необходимо иметь ввиду эти события.
Иеремия был пророком, тяжело переносившим свое пророчество, даже страдавшим из-за него. Он зашел так далеко, что проклинал день своего рождения, жалея о том, что не умер в утробе матери (Иер. 20,14,16-18). Он отчетливо видел, что его народу необходимо возвратиться к истинному поклонению Богу, к соблюдению божественного закона; у людей был шанс спастись от гибели, но они пропустили его, находясь под властью иллюзий. Иеремия также отчетливо видел, что против него все больше и больше усиливалось сопротивление, и даже планировались покушения на его жизнь. Он же, искренне желая спасения своего народа, рассказывал, как заступался за свой народ перед Богом, говорил в пользу своего народа, желая отвести от него гнев Божий. Но теперь, после того как он узнал о покушении врагов на свою жизнь, он изменяет свою позицию: теперь он просит Бога о строгом наказании: "Да будут они низвержены пред Тобою, поступи с ними во время гнева Твоего!" (Иер. 18,23). Итак, мы, наблюдаем своеобразное колебание между солидарностью со своим отечеством, желанием, чтобы оно было спасено, и познанием того, что должен свершиться Божий суд, что кара неизбежна.
Знаменательно одно событие, произошедшее в 605 (или 604) году. По Божественному повелению Иеремия диктует получаемые им пророчества, которые записываются на свиток, и поручает прочесть эти пророчества перед народным собранием по поводу поста. Когда царь узнал об этом, он приказал принести этот свиток, прочесть записанное, а затем бросал его в огонь по три, четыре столбца. И снова по Божественному повелению диктовал Иеремия свиток, причем, как подчеркивается, было "еще прибавлено к ним много подобных тем слов".
То, что Гоголь знал и подробно изучал Книгу Пророка Иеремии, документально доказано. Один из экземпляров Библии, принадлежавших Гоголю, содержит пометки на полях, сделанные его рукой. Судя по этим пометкам, в Ветхом Завете его особо интересовали книги Пророков Исайи, Иеремии, Иезекииля. Большинство пометок содержит в себе книга Пророка Иеремии. Из нее можно было бы даже восстановить биографию автора, что невозможно сделать при прочтении других пророческих книг Ветхого Завета. Эти биографические моменты явно привлекали внимание Гоголя. Вот только некоторые из его пометок: "Покушение убить Иеремию", "Иеремия от лица Бога склоняет народ отдаться в плен Вавилонский", "Злострадание Иеремии и заточенье его", "Испуганные Иудеи прибегают к Иеремии", "Иеремия возвещает волю Божию и запрещает бежать во Египет", "Ему не верят и бегут во Египет".
Итак, мы приходим к выводу, что среди всех ветхозаветных пророков пророк Иеремия произвел особенно глубокое впечатление на Гоголя. Возникает вопрос, существуют ли еще свидетельства особого отношения Гоголя к Иеремии. В связи с этим надо в первую очередь указать на знакомство Гоголя с Александром Бухаревым, который сравнивал его с Иеремией. Гоголь встречался с ним по крайней мере два раза в Троице-Сергиевой лавре. Бухарев, который в 1844 (или 1845) году под именем Феодора постригся в монахи, был профессором, преподававшим Ветхий завет в тамошней Духовной академии. Будучи незаурядной личностью, он принимал живое участие в тогдашней культурной жизни. Производит впечатление тот факт, что Бухарев интенсивно занимался изучением "Откровения Иоанна". Так же основательно он изучал "Выбранные места из переписки с друзьями" Гоголя, написав в 1848 году работу об этом, опубликованную только в 1860 году. В этой работе он попытался доказать, что не существует противоречия между "Мертвыми душами" и "Выбранными местами ...". По суждению Павла Евдокимова, высказанного им в его книге о Гоголе и Достоевском, тогда только Бухарев по-настоящему понял Гоголя (1961, стр.123). Гоголь и Бухарев познакомились в 1848 году; Бухарев читал Гоголю свою рукопись, спрашивал, чем именно должна кончиться поэма "Мертвые души".
Свое впечатление о Гоголе он обобщил следующим образом: "...Мне виделся в нем уже мученик нравственного одиночества...". Сохранилось воспоминание одного из слушателей лекций Бухарева: "О Гоголе ... в классе Священного Писания читал лекции известный архимандрит Феодор Бухарев, причислявший Гоголя чуть ли не к пророкам-обличителям, вроде Иеремии, плакавшем о пороках людских". Эти слова мы можем расценить таким образом, что Бухарев в своих лекциях об Иеремии определил отношение к Гоголю, сравнивая его с Иеремией. Мы уже знаем, что Бухарев, занимаясь по своей специальности Ветхий заветом, имел живой контакт с современной культурной жизнью. Очевидно, что, особенно внимательно читая 15 главу "Выбранных мест ...", он правильно расшифровал косвенные ссылки на книгу Иеремии. Его знание книги Иеремии помогло ему понять Гоголя.
Кроме упомянутых пометок на страницах Библии, существует второе свидетельство того, как сам Гоголь относился к Иеремии, как он его воспринимал, что он для него значил. С октября 1850 г. по апрель 1851 г. Гоголь жил в Одессе. Он часто бывал в доме князей Репниных, где жила Екатерина Александровна Хитрово. В своем дневнике она рассказывает, что Гоголь в начале Великого поста 1851 г. прочитал "житие Пелагии" (очевидно имеется в виду "Похвала Пелагии" Иоанна Златоуста). Вероятно, Гоголь прочел и другое произведение Златоуста, где содержится цитата из Иеремии, а именно 19 стих 15-ой главы. В дневнике Е. Хитрово об этом сказано: "В голосе слышались красоты слога или мыслей того, что он читает. Как орел, встрепенулся, и хотя был с опущенными глазами, но блеск какой-то исшел из них, когда он прочел из Иеремии: "И аще изведеши честное от недостойного, яко уста мои будеши!" Эта цитата взята из того раздела книги Иеремии, где дается намек на один из его частых кризисов, когда Бог предлагает ему обновление его призвания. Данная цитата и следующие за ней даются мной в переводе с еврейского текста Библии. Бог говорит: "Если ты обратишься, я дам тебе обратиться, тогда ты можешь опять предстоять пред лицом моим. Если ты говоришь драгоценное, а не ничтожное, тогда ты можешь опять быть моими устами". "... Я спасу тебя от руки злых, я избавлю тебя от руки притеснителей". Екатерина Хитрово продолжает свой рассказ: "Я: "Как хорошо!" Он взглянул на меня и повторил стих; в глазах оставался и теплился тот огонь, который возгорелся в первую минуту восторга". Я думаю, что теперь можно быть уверенным, что действительно судьба пророка Иеремии произвела особенное впечатление на Гоголя, что Иеремия оказывал на него притягательное действие.
Последнее известное мне свидетельство, устанавливающее связь между Гоголем и Иеремией, принадлежит Погодину, который дружил с Гоголем, хотя в их дружбе временами и сквозила напряженность. Гоголь часто проживал в его доме, будучи в Москве. Погодин рассказывает, как в сороковой день кончины Гоголя в Свято-Даниловом монастыре служили заупокойную обедню и панихиду. Присутствовали Аксаков, Шевырёв, Хомяков и Самарин. Потом, сидя за поминальной монастырской трапезой, читали "Светлое воскресенье", заключительную главу "Выбранных мест...". Этот выбор был чрезвычайно удачным не только потому, что данный поминальный день пришелся на понедельник Светлой седмицы. Эти размышления Гоголя об отношении русского народа к Пасхе, ко Христу, действительно носят характер завещания: "...Есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа...", "...приготовленная земля сердец наших призывала сама собой его слово..." (слово Христа). Мы можем себе ясно представить, что настроение за монастырской трапезой не было скорбным и угнетенным, но торжественным и пасхальным.
Затем возник вопрос, какая надпись могла бы быть подходящей для надгробного памятника. Очевидно, были сделаны несколько предложений, которые не встретили одобрения. Лишь предложенная Погодиным цитата из книги Иеремии (Иер. 20,8) "Горьким словом моим посмеюся" получила полное одобрение и даже вызвала восторг. Эта цитата и была высечена на могиле Гоголя.
С выбором этого текста связаны два вопроса, в которых трудно достичь окончательной ясности. Первый из них: почему Погодин предложил именно эту цитату, и второй: как возник текст славянского перевода Ветхого завета (еврейский оригинал гласит иначе). Я мог бы высказать несколько мыслей по этому поводу.
Обратимся сперва к вопросу, пришел ли Погодин самостоятельно к идее предложить данную цитату из Иеремии. Может ли быть, что эта идея возникла из его разговоров с Гоголем? Следует ли думать, что Гоголь в разговорах с Погодиным как и в разговорах с Елизаветой Хитрово дал понять, какое глубокое впечатление произвел на него Иеремия, до какой степени он чувствовал, что его существо отображается характере и в судьбе этого ветхозаветного пророка? Я думаю, что этот вопрос трудно разрешим. Но очень вероятно, что Гоголь знал эту цитату и относил ее к своему "Ревизору".
Еще раз обратимся к "Развязке "Ревизора". Вы помните: то, что Гоголь считал ключом этой комедии, он от своего имени вложил в уста Первого комического актера. После того, как было много смеха, Первый комический актер действительно высказывает "горькое слово" об истинном смысле комедии, о необходимости стать лучше, об ужасах загробного мира и т.д. "...Над собой смеемся", - говорит Первый комический актер, - "...потому что слышим приказанье высшее быть лучшими других!" "Смотрите: я плачу!" "...Комический актер, я прежде смешил вас, теперь я плачу". В "Авторской исповеди" тоже есть место о внутренней связи между смехом и тоской. Гоголь говорит здесь, что он придумывал смешное и комичное, чтобы избавиться от своей тоски; что в "Ревизоре" он решил собрать все дурное, что есть в России, и одним разом посмеяться над всем. И результатом этого он выводит: "Сквозь смех ... читатель услышал грусть". Когда его знакомый Малиновский попросил его написать что-то под его портретом в книге, он выбрал место из "Мертвых душ": "И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы".
Мне кажется, что основанием для этих цитат является знание Гоголя определенного места из Книги Иеремии, хотя, надо признать, это невозможно доказать. И без знания этого места из книги Иеремии Гоголь мог бы высказываться о смысле смешного в своем "Ревизоре". В любом случае, созвучие между цитатой из Иеремии и художественными целями Гоголя в "Ревизоре" поразительно; и мы можем понять полное одобрение и восторг участников поминальной монастырской трапезы.
Так же странно и загадочно возникновение текста славянского перевода. Перевод с еврейского оригинального текста гласит: "... Лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и повседневное осмеяние". В славянском переводе этот текст звучит так: "Горьким словом моим посмеюсь я". Иеремия не может произносить спокойные, благоразумные речи; то, что он слышит, как слово Божье, так страшно, так волнующе, так ужасающе, что он не может остаться спокойным; он не может не передать собственного потрясения, он должен кричать. Но он ничего не достигает из того, что хочет достичь; те, к кому он обращается, не только остаются равнодушными, они не принимают Иеремию всерьез, насмехаются над ним, высмеивают его. Из текста еврейского оригинала мы не можем почувствовать, что сам Иеремия смеется. Из всей Книги Иеремии вытекает то, что он не смеется, но плачет, день и ночь, беспрерывно.
Те лица, которые около 200 г. до Рождества Христова переводили еврейскую Библию на греческий язык, перевели это место несколько своеобразно, но весьма интересно: "Горьким словом моим высмеиваю себя" (перевод с греческого). Это означает, что Иеремия до такой степени убежден в безуспешности своих проповедей, что с самого начала знает: он будет пожинать только смех. Переводчик считает, что Иеремия говорит здесь с сарказмом: "Я высмеиваю самого себя, так как сам виновен в смехе над самим собою". Переводчики точно знали, что Иеремия не смеется, но только плачет и все только плачет. Те, кто переводил греческий Ветхий завет (так называемую Септуагинту) на славянский язык, не поняли этого "высмеиваю себя"; осталось только "смеюся". Быть может, при этом они думали: Горькое слово Иеремии так экстатично, так эмоционально, что другим людям может казаться, что он смеется. Но его смех - не выражение веселой натуры, он болезненный, истерический.
Об Иеремии можно сказать: Он говорит горькие слова; но реакция, которую он вызывает, - не та, которой он желает для себя. О Гоголе же, как авторе "Ревизора", можно сказать: Он приводит людей к смеху; у него такой большой талант смешить, что люди не могут не смеяться (так было не только во время спектаклей "Ревизора", но и тогда, когда Гоголь сам читал свое произведение). Зрители и слушатели смеются, так как захвачены происходящим. Но Гоголь однозначно дает понять, что для него суть не в смехе, но в горьких словах. Этим он наталкивается на непонимание - как и Иеремия. Ибо горькие слова люди не хотели слышать от Гоголя. Цитату из Иеремии можно было бы трансформировать еще раз: "Моим смехом я говорю горькие слова".
Свою лекцию я хочу закончить цитатой из работы Игоря Виноградова "Гоголь - Художник и мыслитель", которая вышла в свет в 2000 году. "Действительно, не только в словах, но и в самой судьбе пророка Иеремии, ... который за свои обличения и пророчества заслужил только неприязнь своих соотечественников, можно почерпнуть многое к пониманию того служения, каким стремился принести пользу своей земле творец "Ревизора" и "Мертвых душ". Виноградов, безусловно, прав!