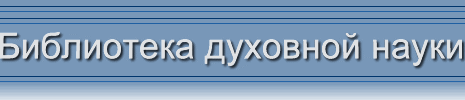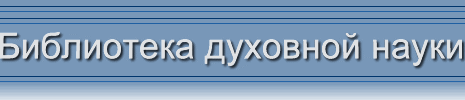Рудольф Штейнер
Мистика на заре духовной жизни нового времени
и ее отношение к современному мировоззрению
GA 007
Пер. с нем. Е.П. Машковцева
Rudolf Steiner
Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens
und Ihr Verhaeltnis zur modernen Weltanschauung
Предисловие к первому изданию [1901]
ВВЕДЕНИЕ
МЕЙСТЕР ЭКХАРТ
ДРУЗЬЯ БОЖЬИ
КАРДИНАЛ НИКОЛАИ КУЗАНСКИЙ
АГРИППА НЕТТЕСГЕИМСКИЙ И ТЕОФРАСТ ПАРАЦЕЛЬС
ВАЛЕНТИН ВЕЙГЕЛЬ И ЯКОВ БЕМЕ
ДЖОРДАНО БРУНО И АНГЕЛ СИЛЕЗСКИЙ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОПОЛНЕНИЯ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ [1924]
ПРИМЕЧАНИЯ
Предисловие к первому изданию [1901]
То, что я излагаю в этой книге, составляло первоначально содержание лекций, прочитанных мною в минувшую зиму в Теософской Библиотеке в Берлине. Я был приглашен графиней и графом Брокдорф, чтобы говорить о мистике в кругу слушателей, для которых обсуждаемые здесь вещи являлись важным жизненным вопросом. Десятьг лет тому назад я бы еще не решился исполнить такое пожелание. Не потому, что еще не был жив во мне мир тех идей, которые я теперь излагаю. Мир этих идей уже вполне содержится в моей "Философии свободы". Но чтобы выразить эти идеи так, как я делаю это теперь, и положить их в основу целого исследования, как это сделано в этой книге, для этого нужно еще нечто иное, кроме непоколебимого убеждения в их логической истине. Для этого необходимо тесное общение с этим миром идей на протяжении многих лет жизни, и лишь после того, как общение стало для меня привычным, я решаюсь говорить в том духе, который можно уловить в этой книге.
Кто вступит в мир моих идей, не освободившись от предвзятости, тот найдет в нем противоречие на противоречии. Лишь недавно я посвятил книгу о мировоззрениях XIX века (Берлин, 1900) великому естествоиспытателю Эрнесту Геккелю, пытаясь показать в ней правомерность его круга мыслей. А в нижеследующем изложении я с полным сочувствием и признанием говорю о мистиках, начиная с Мейстера Экхарта и до Ангела Силезского. О других "противоречиях", на которые мне могут еще указать, я не стану упоминать. Я не удивлюсь, если меня осудят с одной стороны как "мистика", с другой - как "материалиста". Если я найду, что иезуитский патер Мюллер разрешил трудную химическую задачу, и открыто примкнул к нему в этом пункте, то никто, конечно, не сможет осудить меня как сторонника иезуитизма, не прослыв у здравомыслящих людей за глупца.
Кто, подобно мне, идет своим путем, тот должен быть готов ко многим недоразумениям. Но, в сущности, он может легко переносить их. Чаще всего такие недоразумения бывают вполне понятны, если представить себе духовный склад этих критиков. Не без чувства юмора оглядываюсь я на некоторые "критические" суждения, которые я испытал на протяжении моей писательской деятельности. Сначала все шло хорошо. Я писал о Гете и в связи с ним. То, что я тогда говорил, для многих звучало так, что они могли подвести это под шаблоны своего мышления. Они это и делали, говоря, что "такую работу" как предисловие Рудольфа Штайнера к естественно-научным сочинениям Гете, можно назвать прямо-таки самым лучшим из всего, что было вообще написано по этому вопросу". Когда позже я выпустил в свет самостоятельную книгу, то оказалось, что я уже значительно поглупел. Потому что теперь уже один благосклонный критик дал такой совет: "Следует настоятельно посоветовать ему, прежде чем продолжать свои преобразования и выпускать в свет свою "Философию свободы", сначала поработать над своим пониманием обоих этих философов (Юма и Канта)". К сожалению, критик знает о Канте ,и Юме только то, что он способен сам у них вычитать: таким образом, он советует мне, в сущности, не представлять себе относительно этих мыслителей ничего, кроме того, что он представляет себе сам. Если я этого достигну, он будет мною доволен. Когда появилась моя "Философия свободы", меня раскритиковали как самого несведущего, начинающего писателя. Среди критиков был господин, которого побуждало писать собственные книги только то, что он не понял бесчисленного множества чужих. Он глубокомысленно поучал меня, говоря, что я заметил бы свои ошибки, если бы "глубже изучил психологию, логику и теорию познания"; и он тут же перечислил мне книги, которые я должен прочесть, чтобы стать таким же умным, как он: "Милль, Зигварт, Риль, Паульсен, Б. Эрдман". Особенно был.для меня забавен совет одного критика, которому так импонировало его "понимание Канта", что он никак не мог себе представить, чтобы кто-нибудь прочел Канта и все-таки судил о нем иначе, чем он. Поэтому он, указывал мне соответствующие главы в сочинениях Канта, из которых я мог бы почерпнуть столь же глубоко основательное понимание Канта, какое было у него.
Я привел здесь несколько типичных суждений о мире моих идей. Сами по себе незначительные, они, однако, могут, как мне кажется, симптоматически указывать на факты, которые становятся в наше время тяжелой помехой на пути писателя, занятого областью высших вопросов знания. Я должен, конечно, идти своим путем, безразлично, дадут ли мне добрый совет прочесть Канта или объявят еретиком за согласие с Геккелем. Так написал я и о мистике, не считаясь с суждениями о ней верующего материалиста. Но чтобы не тратили даром типографской краски, я хотел бы только сообщить тем, кто посоветует мне теперь, может быть, прочесть "Мировые загадки" Геккеля (#1), что в последние месяцы я прочел об этой книге около 30 лекций.
Надеюсь, я показал в моей книге, что можно быть верным последователем естественно-научного миросозерцания и, несмотря на это, искать путей к душе, путей, которыми идет правильно понятая мистика. Я иду еще дальше и говорю: только тот может достичь полного понимания фактов природы, кто познает дух в смысле истинной мистики. Не следует только истинную мистику смешивать с "мистицизмом" спутанных умов. Как мистика может заблуждаться, я указал в моей "Философии свободы".
Берлин, сентябрь 1901 Рудольф Штайнер
ВВЕДЕНИЕ
Есть магические формулы, которые на протяжении столетий истории духа всякий раз действуют по-новому. В Греции одна такая формула считалась изречением Аполлона. Она гласит: "Познай самого себя" (#2). Подобные изречения словно таят в себе бесконечную жизнь. С ними встречаешься, странствуя по самым различным путям духовной жизни. Чем дальше подвигаешься, чем больше проникаешь в познание вещей, тем глубже кажется смысл этих формул. В иные мгновения нашего раздумья они вспыхивают, как молния, освещая всю нашу внутреннюю жизнь. В эти мгновения в нас оживает что-то похожее на чувство, как будто мы подошли вплотную к развитию человечества и слышим биение его сердца. Какими близкими становятся нам личности прошлого, когда при каком-нибудь из их изречений нас охватывает это чувство: вот они открывают нам, что и у них были подобные мгновения. Тогда ощущаешь себя в тесном общении с этими личностями. Как близко узнаем мы например, Гегеля, когда в третьем томе его "Чтений по истории философии" наталкиваемся на слова: "Какой вздор - говорят нам - все эти абстракции, которые мы рассматриваем у себя в кабинете, вникая в споры и ссоры философов и решая их так или иначе, какие это все пустые абстракции. Нет! Нет! Это деяния мирового Духа, а значит и судьбы, философы бывают при этом ближе к Богу, чем те, что питаются крохами духа; они читают или пишут высшие веления прямо в оригинале: они призваны участвовать в их написании. Философы - это мисты, присутствующие в самом внутреннем святилище при первом пробуждении мирового Духа". Когда Гегель говорил это, он переживал одно из вышеописанных мгновений. Он сказал эти слова, заканчивая свой обзор греческой философии. И он показал ими, что перед ним однажды вспыхнул, как молния, смысл неоплатонической мудрости, о которой он говорил в своем обзоре. В миг этого просветления он тесно сроднился с такими умами, как Плотин, Прокл. И мы сродняемся с ним, когда читаем его слова.
И мы сродняемся также с одиноким мыслителем, приходским священником в Чопау, Валентином Вигелием (Вейгелем), когда читаем вступительные слова в его книжечке "Познай самого себя", написанной в 1578 году: "Мы читаем у древних мудрецов это полезное изречение: "Познай самого себя", которое, хотя и употребляется нередко в мирской жизни в смысле: оглянись на самого себя, что ты такое; загляни в свою душу; суди сам себя и не осуждай других, - хотя, говорю я, оно и применяется в обычной жизни, тем не менее такое изречение: "Познай самого себя", мы можем по всей справедливости применить к естественному и сверхъестественному познанию всего человека; то есть чтобы человек не только рассматривал самого себя и помнил поэтому, как он должен в обычной жизни держаться с людьми, но чтобы он познал также и свою природу, внутренне и внешне, в духе и в естестве; откуда он приходит, и из чего он создан, и к чему он предназначен". Валентин Вейгель, со своей точки зрения, пришел к познанию, которое подытоживается для него в изречении Аполлона.
Целому ряду глубоких умов, начиная с Мейстпера Экхарта (1250-1327) и кончая Ангелом Силезским (1624 - 1677), к которым принадлежит также и Валентин Вейгель, можно приписать подобный же путь и одинаковое отношение к "Познай самого себя".
Всем этим умам присуще яркое ощущение, что в самопознании восходит для человека некое солнце, которое проливает свет еще и на нечто совсем иное, кроме случайной, отдельной личности наблюдателя. То, что открылось сознанию Спинозы на эфирных высотах чистой мысли, а именно, что "человеческая душа обладает достаточным познанием о вечной и бесконечной сущности Бога", - это жило в них, как непосредственное ощущение; и самопознание было для них путем к этой вечной и бесконечной сущности Бога. Им было ясно, что самопознание, в своем истинном образе, обогащает человека новым чувством, которое раскрывает ему мир, относящийся к миру, достижимому без этого чувства, как мир зрячего-к миру слепого. Трудно выразить значение этого нового чувства лучше, чем это сделал Фихте в своих берлинских чтениях в 1813 году: "Представьте себе мир слепорожденных, которым знакомы только вещи и соотношения вещей, существующие благодаря чувству осязания. Подите к ним и заговорите с ними о красках и о других соотношениях, существующих лишь для зрения я благодаря свету. Вы будете говорить им о несуществующем, и это еще самое лучшее, если они скажут вам об этом прямо; ибо тогда вы скоро заметите свою ошибку и, если не можете раскрыть им глаза, то прекратите тщетную речь. Или они захотят почему-либо уловить смысл вашего учения; тогда они смогут понять его, исходя лишь из чувства осязания: они захотят осязать свет и краски и другие соотношения видимого; они будут думать, что осязают их, будут как-нибудь ухищряться и измыслять в пределах осязания что-нибудь такое, что они назовут краской. Но это будет неверным пониманием, искажением, ложным толкованием". Подобное же можно сказать и о том, к чему стремились упомянутые выше умы. Они видели в самопознании раскрытие нового чувства. И это чувство - так ощущали они - дарует созерцания, не существующие для людей, которые не видят в самопознании черт, отличающих его от всех других родов познавания. У кого не раскрылось это чувство, тот думает, что самопознание - то же самое, что и познание при помощи внешних чувств или какого-либо другого извне действующего средства:. Он думает: "познание есть познание". Но только в первом случае его предметом является нечто, находящееся во внешнем мире, а во втором случае этот предмет - его собственная душа. Он воспринимает только слова или, в лучшем случае, отвлеченные мысли в том, что для более глубокого взора является основой внутренней жизни; а именно - в утверждении, что при всяком ином роде познания мы имеем предмет вне нас, а при самопознании мы сами находимся внутри этого предмета; что всякий другой предмет мы видим перед собой готовым и законченным, между тем как наблюдаемое в себе мы сами деятельно и творчески созидаем в нас самих. Это может показаться простым словесным объяснением, может быть, даже банальностью; или же - это может предстать, как высший свет, озаряющий по-новому всякое другое познание. Кто понимает это в первом смысле, тот находится в положении слепого, которому говорят: вот блестящий предмет. Он слышит слова, но блеска для него не существует. Можно вместить в себе всю сумму знаний данной эпохи, но если не ощущаешь всего значения самопознания, то с высшей точки зрения все знание оказывается слепым.
Независимый от нас мир является для нас живым благодаря тому, что он сообщается нашему духу. Сообщаемое должно быть выражено на свойственном нам языке. Книга, содержание которой изложено на чужом для нас языке, не имела бы для нас значения. Точно так же не имел бы для нас значения и мир, если бы он говорил с нами не на нашем языке. Речь, которая доходит к нам от вещей, воспринимается нами изнутри нас самих. Но тогда это именно мы и говорим. Дело только в том, чтобы мы верно подслушали наступающее превращение, когда мы закрываем наше восприятие для внешних вещей и прислушиваемся только к тому, что звучит из нас самих. Но для этого и необходимо новое чувство. Пока оно не пробуждено, мы думаем, что и в сообщениях о нас самих мы слышим также лишь сообщения о внешнем предмете; мы думаем, что где-то скрыто что-то, говорящее к нам таким же образом, как говорят вдешние вещи. Но когда мы обладаем новым чувством, мы знаем, что его восприятия существенно отличаются от тех, которые относятся ко внешним вещам. Тогда мы знаем, что это чувство не оставляет вне себя предмет своего восприятия, как глаз оставляет вне себя зримый им предмет, но что оно способно без остатка принимать в'себя свой предмет. Когда я вижу какую-нибудь вещь, она остается вне меня; когда же я воспринимаю себя, я сам вступаю в свое восприятие. Кто ищет при этом еще чего-то, принадлежащего ему самому, помимо воспринятого, тот показывает, что в восприятии ему еще не раскрылось его настоящее содержание. Иоанн Таулер (1300-1361) выразил эту истину меткими словами: "Если бы я был королем и не знал этого, то я не был бы королем. Если я не раскрылся самому себе в моем самовосприятии, то меня нет для меня. Если же я раскрылся себе, тогда и в моем восприятии я имею себя в моей исконной сущности. Ничего не остается от меня вне моего восприятия". Фихте энергично указывает на отличие самовосприятия от всякого другого рода восприятия. "Большинство людей - говорит он - легче было бы заставить считать себя за кусок лавы на луне, нежели за "Я". Кто внутренне еще не разобрался в этом, тот не поймет настоящей философии, да и не нуждается в ней. Природа, для которой он является орудием, уже без всякого его содействия будет руководить им во всех делах, которые ему надо выполнить. Для философствования нужна самостоятельность: и ее человек может дать себе только сам. Мы не должны хотеть видеть без глаз; но мы не должны также утверждать, что видит глаз".
Итак, восприятие самого себя есть в то же время пробуждение своего "Я". В нашем познании мы связываем сущность вещей с нашей собственной сущностью. Сообщения, получаемые нами от вещей на нашем языке, становятся членами нашего собственного "Я". Вещь, стоящая передо мной, уже более не отделена от меня, если я ее познал. То, что я могу принять в себя от нее, входит в состав моей собственной сущности. Но, пробуждая мое собственное "Я", воспринимая мое внутреннее содержание, я пробуждаю к высшему бытию также и то, что я извне включил в мою сущность. Свет; падающий на меня самого при моем пробуждении, падает также и на то, что я усвоил себе из вещей мира. Свет вспыхивает во мне и озаряет меня, а вместе со мной и все, что я познаю из мира. Что бы я ни познал, все оставалось бы слепым знанием, если бы на него не падал этот свет. Я мог бы обнять в моем познании весь мир: он не был бы тем, чем он должен стать во мне, если бы познание не было пробуждено во мне к высшему бытию.
То, что я привношу в вещи благодаря этому пробуждению, это не новая идея, не обогащение моего знация содержанием, это - возведение познания на более высокую ступень, на которой всем вещам сообщается новое сияние. Пока я не вознес познания на эту ступень, всякое знание остается для меня, в высшем смысле этого слова, не имеющим никакой цены. Вещи существуют и без меня. Они обладают своим бытием в себе. Какое же значение может это иметь, если с их бытием, которым они обладают вовне и без меня, я связываю еще иное, духовное бытие, которое повторяет эти вещи во мне? Если бы дело было только в простом повторении вещей, это было бы бессмыслицей. - Но о простом повторении речь идет лишь до тех пор, пока я не пробуждаю воспринятого мною духовного содержания вещей посредством моего собственного "Я" к высшему бытию. В таком случае я не повторяю в себе сущности вещей, но возрождаю ее на более высокой ступени. С пробуждением моего "Я" совершается новое, духовное рождение вещей мира. То, что являют вещи в этом новом рождении, не было им присуще дотоле. Вот стоит дерево. Я воспринимаю его в мой дух. Я освещаю своим внутренним светом то, что я постиг. Дерево становится во мне чем-то большим, чем вне меня. То, что входит от него через врата внешних чувств, включается в некое духовное содержание. Идеальный противообраз дерева находится во мне. Он говорит о дереве бесконечно многое, чего не может мне сказать дерево вне меня. Только из меня сияет дереву то, что оно есть. Теперь дерево уже не отдельное существо, каким оно является вовне, в пространстве. Оно становится членом всего духовного мира, живущего во мне. Оно связывает свое содержание с другими идеями, которые во мне. Оно становится членом всего мира идей, обнимающего царство растений; оно включается, далее, в лестницу всего живого. - Другой пример: я бросаю камень вдаль, в горизонтальном направлении. Он движется по кривой линии и через некоторое время падает на землю. В последовательные промежутки времени я вижу его в различных точках пространства. Благодаря моему наблюдению я обнаруживаю следующее: во время своего движения камень находится под различными влияниями. Если бы он находился только под действием толчка,'который я ему дал, он вечно летел бы по прямой линии, не изменяя своей скорости. Но теперь земля оказывает на него влияние. Она притягивает его к себе. Если бы я просто выпустил его из рук, без толчка, он упал бы отвесно на землю. При этом его скорость непрерывно возрастала бы. Из взаимодействия обоих этих влияний и происходит то, что я действительно вижу. - Предположим, что я не мог бы мысленно разделить обоих влияний и из их закономерного соединения снова мысленно сочетать то, что я вижу: тогда дело ограничилось бы зрительным впечатлением. Это было бы духовно-слепым глядением, восприятием последовательных положений, занимаемых камнем. В действительности дело не ограничивается этим. Весь процесс совершается дважды. Один раз вовне, и тогда видит его мой глаз; затем мой дух заставляет весь процесс возникнуть еще раз, духовным образом. На духовный процесс, не зримый моим глазом, должен я направить мое внутреннее чувство, и тогда ему открывается, что я собственной силой пробуждаю его, как процесс духовный. - Опять можно привести выражение Фихте, наглядно уясняющее этот факт: "Новое чувство есть, следовательно, чувства для восприятия духа; такое, для которого существует только дух и отнюдь ничего другого; для которого и все другое, всякое данное бытие, принимает форму духа и превращается в дух; для которого поэтому бытие, в его собственном образе, на самом деле исчезло... Этим-то чувством и видели люди с тех пор, как они существуют: и все великое и прекрасное, что есть в мире, и что одно только и дает существовать человечеству, происходит из видений этого чувства. Но, чтобы это чувство увидело само, себя, и притом в своем различии и в противоположности с другим, обычным чувством, этого не бывало. Впечатления обоих чувств сливались, жизнь распадалась без соединяющего звена на эти две половины". Соединяющее звено образуется благодаря тому, что внутреннее чувство постигает в его духовности то духовное, которое оно пробуждает при своем общении с внешним миром. Вследствие этого то, что мы принимаем от вещей в наш дух, перестает быть простым повторением, не имеющим никакой цены. Оно является новым, по сравнению с тем, что может дать одно только внешнее восприятие. Простой процесс бросания камня и мое восприятие этого процесса являются в более высоком свете, когда я уяснил себе во всем этом задачу моего внутреннего чувства. Чтобы мысленно сочетать оба влияния и роль воздействия каждого из них, необходима известная сумма духовного содержания, которую мне нужно было усвоить при восприятии полета камня. Таким образом, я применяю к вещи, находящейся передо мной во внешнем мире, некоторое, уже накопленное во мне духовное содержание. И этот процесс внешнего мира включается в существующее уже духовное содержание. Он оказывается, в своеобразии своем, выражением этого содержания. Таким образом, благодаря пониманию моего внутреннего чувства, мне раскрывается, в каком отношении содержание этого чувства находится к вещам внешнего мира. Фихте мог сказать, что без понимания этого чувства мир распадается для меня на две половины: на вещи вне меня и на образы этих вещей во мне. Обе половины соединяются, когда внутреннее чувство начинает понимать себя, и вместе с тем ему становится ясным, какой свет проливает оно само на вещи в процессе познания. И Фихте мог также сказать, что для этого внутреннего чувства видим только дух. Ибо оно видит, как дух просветляет чувственный мир тем, что включает его в мир духовный. Внутреннее чувство воскрешает в себе внешнее чувственное бытие, как духовную сущность, на более высокой ступени. Внешняя вещь познана вполне, если в ней нет ни одной части, которая не пережила бы таким образом духовного возрождения. Тем самым каждая внешняя вещь включается в духовное содержание, которое, будучи постигнуто внутренним чувством, ? разделяет судьбу самопознания. Духовное содержание, принадлежащее какой-нибудь вещи, благодаря озарению изнутри, как и наше собственное "Я", без остатка вливается в мир идей. - Эти рассуждения не содержат ничего, что было бы доступно логическому доказательству или нуждалось бы в нем. Они - не что иное, как данные внутреннего опыта. Кто отрицает их содержание, тот только показывает, что у него нет этого внутреннего опыта. С ним нельзя спорить; так же, как со слепым не спорят о красках. - Но не следует утверждать, что этот внутренний опыт доступен только немногим избранным,, благодаря их одаренности. Он - общечеловеческого свойства. Каждый, кто сам не замкнет ся перед ним, может найти к нему доступ. Это замыка ние встречается, конечно, довольно часто. И при возражениях против подобного опыта всегда чувствуешь, что дело вовсе не в самих людях, которые не могут достигнуть этого внутреннего опыта, а в том, что они преграждают себе доступ к нему сетью всяких логических хитросплетений. Это почти так же, как если бы кто-нибудь увидел в телескоп новую планету и все-таки продолжал отрицать ее существование, потому что его вычисление показало ему, что на этом месте не может быть никакой планеты.
Однако у большинства людей при этом все-таки остается ясное чувство, что познавание при помощи внешних чувств и расчленяющего рассудка еще не может исчерпать всего заложенного в сущности вещей. Но тогда они думают, что и остаток, точно так же должен быть во внешнем мире, как и сами предметы внешнего восприятия. Они полагают, что должно оставаться нечто, недоступное познанию. То самое, чего они должны были бы достигнуть путем вторичного восприятия однажды уже воспринятой и рассудком постигнутой вещи, т, е. путем нового восприятия ее внутренним чувством на высшей ступени, - это они помещают, как нечто недоступное и неведомое, во внешний мир. Они говорят о границах познания, не позволяющих нам постигнуть "вещь в себе". Они говорят о неведомой "сущности" вещей. Что эта "сущность" вещей раскрывается, когда внутреннее чувство проливает свой свет на вещи, этого они не хотят признать. Особенно яркий пример скрытого здесь заблуждения показало знаменитое "Ignorabimus" (#3), речь естествоиспытателя Дюбуа-Реймона, произнесенная им в 1876 году. По его словам, мы везде можем дойти только до установления в процессах природы проявлений "материи". Но что такое сама материя, об этом мы ничего не можем узнать. Дюбуа-Реймон утверждает, что мы никогда не сможем проникнуть туда, где материя таинственно возникает в пространстве. Причина же, почему мы не можем туда проникнуть, заключается в том, что там вообще ничего нельзя искать. Говорящие таким образом в духе Дюбуа-Реймона смутно чувствуют, что познание природы приводит к выводам, указывающим на что-то другое, чего само это познание дать не в состоянии. Но на путь, ведущий к этому другому, на путь внутреннего опыта, они не хотят вступить. И потому они стоят беспомощно перед вопросом о "материи", как перед темной загадкой. Кто вступает на путь внутреннего опыта, в том вещи достигают нового рождения; и тогда раскрьшается то, что остается в них неизвестным для внешнего опыта.
Так внутренняя сущность человека получает знание не только о самой себе, но и о внешних вещах. Отсюда открывается для человеческого познания бесконечная перспектива. Внутри человека сияет свет, не ограничивающий своей озаряющей силы одним этим внутренним миром. Это - солнце, которое озаряет одновременно всю действительность. В нас проявляется нечто такое, что соединяет нас со всем миром. Мы уже больше не отдельный, случайный человек, не тот или иной индивидуум. В нас раскрывается весь мир. Он вскрывает в нас свой собственный строй; и он вскрывает нам характер нашей связи с ним, как индивидуумов. Из познания себя рождается познание мира. И наш собственный ограниченный индивидуум духовно включается в великую систему мировых взаимосвязей, ибо в нем оживает нечто, выходящее за пределы данного индивидуума и объемлющее все то, членом чего он является.
Мышление, не заграждающее себе логическими предрассудками пути к внутреннему опыту, приходит в конце концов всегда к признанию действующего в нас существа, которое связует нас со всем миром, потому что через него мы преодолеваем противоположность внутреннего и внешнего в человеке. Пауль Асмус (#4), рано умерший вдумчивый философ, говорит об этом следующим образом: "Поясним это примером: представим себе кусок сахара; он круглый, сладкий, непроницаемый и т. д.; все это качества, которые мы понимаем; только одно при этом представляется нам как просто "иное" для нас, нами не понимаемое и настолько отличное от нас, что мы не можем проникнуть в него, не утратив себя самих, - как нечто такое, от самой поверхности чего мысль боязливо отшатывается. Это - неведомый нам носитель всех этих свойств; то "само по себе", которое составляет сокровеннейшее "Я" данного предмета". Правильно говорит Гегель, что все содержание нашего представления относится к этому смутному субъекту лишь как акциденция; не проникая в глубины этого "самого по себе", мы только приводим в связь с ним определения, которые в конце концов - так как его самого мы не знаем - тоже не имеют действительно объективного значения и оказываются субъективными. Напротив, мышление в понятиях не имеет такого непознаваемого субъекта, для которого его определения были бы лишь акциденциями; предметный субъект совпадает здесь с понятием. Когда я что-нибудь понимаю, то оно во всей своей полноте бывает дано в моем понятии; я присутствую в самом внутреннем святилище его существа; и не потому, что у него нет своего собственного "самого по себе", но потому, что благодаря господствующей над нами обоими необходимости понятия, проявляющегося во мне субъективно, а в нем объективно, оно принуждает меня согласовать мышление с понятием. Через это размышление, !как говорит Гегель, "нам открывается, одновременно с нашей субъективной деятельностью, также и истинная природа предмета". - Так может говорить только тот, кто способен освещать переживания мышления светом внутреннего опыта.
В моей "Философии свободы", исходя из иных точек зрения, я указал на изначальный факт внутренней жизни: "Итак, несомненно: в мышлении мы касаемся самого мирового становления в такой точке, что мы неизбежно присутствуем при нем, если оно вообще должно состояться. А в этом-то именно и все дело. Причина, почему вещи являются для меня столь загадочными, заключается в том, что я не участвую в их образовании. Я просто застаю их; в мышлении же я знаю, как это происходит. Поэтому нет более первичной исходной точки для рассмотрения всего мирового становления, чем мышление".
Кто смотрит таким образом на внутренние переживания человека, для того уже ясно, какой смысл имеет человеческое познание внутри всего мирового процесса. Оно не является несущественным дополнением к остальному мировому свершению. Оно было бы таковой придачей, если бы представляло собой простое идеальное повторение существующего вовне. Но в познании совершается то, чего не совершается нигде во внешнем мире: мировое свершение само противопоставляет себе свою духовную сущность. Это мировое свершение вечно оставалось бы только половинчатым, если бы оно не пришло к этому противопоставлению. - Тем самым, внутреннее переживание человека включается в мировой процесс; без него этот процесс был бы неполным.
Ясно, что только жизнь, в которой господствует внутреннее чувство, в собственном смысле слова - высшая духовная жизнь, поднимает человека над самим собой. Ибо только в этой жизни раскрывается перед самой собой сущность; вещей. Иначе обстоит дело с низшей способностью восприятия. Например, глаз, обусловливающий зрительное восприятие предмета, является, в противоположность внутренней жизни, ареною процесса, совершенно равного всякому другому внешнему процессу. Мои органы - члены пространственного мира, подобно другим вещам, а их восприятия - временные процессы, не отличающиеся от других. Сущность их также является только тогда, когда они погружаются во внутреннее переживание. Таким образом, я живу двойной жизнью: жизнью предмета среди других предметов, предмета, который живет внутри своей телесности и воспринимает посредством своих органов лежащее вне этой телесности; а над этой жизнью я живу еще другой, более высокой жизнью, которая не знает такого разделения на внутреннее и внешнее и которая объемлет внешний мир и самое себя, простираясь над обоими. Таким образом, я должен сказать: один раз я - индивидуум, ограниченное Я; другой раз я - всеобщее, вселенское Я. Или, как это метко выразил Пауль Асмус: "Деятельность погружения себя в другое мы называем "мышлением"; в мышлении "Я" целиком заполнило свое понятие и отказалось от себя в своей отдельности; поэтому в мышлении мы находимся в равной для всех сфере, ибо принцип обособления, заключающийся в отношении нашего Я к иному для него, исчез в деятельности самоупразднения отдельного Я; тогда это - лишь общее всем "Я."".
Совершенно то же самое имеет в виду и Спиноза, когда он высшую деятельность познания описывает как такую, которая "от достаточного представления подлинной сущности некоторых атрибутов Бога" переходит "к достаточному познанию сущности вещей". Этот переход есть не что иное, как озарение вещей светом внутреннего опыта. Жизнь в этом внутреннем опыте Спиноза описывает удивительными красками: "Наивысшая добродетель души - познавать Бога, или постигать вещи третьим, высочайшим, родом познания. Эта добродетель тем выше, чем более душа постигает вещи этим родом познания; посему тот, кто постигает вещи подобным родом познания, достигает высочайшего человеческого совершенства и, следовательно, исполняется высочайшей радости, сопровождаемой притом представлениями самого себя и добродетели. Итак, из этого рода познания проистекает высочайший душевный покой, какой только возможен". Кто таким образом познает вещи, тот испытывает в самом себе превращение; ибо его отдельное Я в такие мгновения поглощается вселенским Я; все существа являются уже не в значении подчиненных отдельному ограниченному индивидууму; они являются самим себе. На этой ступени нет больше различия между Платоном и мною; ибо то, что нас разделяет, относится к низшей ступени познания. Мы разобщены только как индивидуумы; действующее же в нас всеобщее, оно - одно и то же. И об этом факте также невозможно спорить с тем, кто не имеет о нем опыта. Он не перестанет подчеркивать:. Платон и ты суть двое. Что эта двойственность, что вообще всякая множественность возрождается, как единство, при пробуждении высшей ступени познания, это не может быть доказано, это должно быть испытано. Как ни парадоксально звучит это утверждение, однако оно истинно: идея, которую представлял себе Платон, и та же идея, которую представляю себе я, не суть две идеи. Это одна и та же идея. И существуют не две идеи, одна - в голове Платона, а другая - в моей; но, в высшем смысле, ум Платона и мой проникают друг друга; проникают друг друга все умы, постигающие одинаковую, единую идею; и эта идея существует только как единственная, и только один раз. Она существует; и все умы перемещаются в одно и то же место, чтобы иметь в себе эту идею.
На это превращение, происходящее во всем существе человека, когда он таким образом взирает на вещи, в прекрасных словах указывается в индийской поэме "Бхагавадгита", о которой Вильгельм Гумбольдт выразился поэтому, что он благодарен судьбе за то, что она позволила ему дожить до тех пор, когда он смог ознакомиться с этим произведением. Внутренний свет говорит в этой поэме: "Вечный луч мой, достигший отдельного бытия в мире личной жизни, притягивает к себе пять внешних чувств и индивидуальную душу, которая принадлежит природе. - Когда озаряющий дух воплощается в пространстве и времени или когда он развоплощается, он схватывает вещи и берет их с собой, как дуновение ветра подхватывает и увлекает с собой благоухание цветов. - Внутренний свет повелевает слухом, осязанием, вкусом и обонянием, а также и душой; он создает связь между собой и чувственными вещами. - Невежды не знают, когда внутренний свет загорается и угасает, ни - когда он сочетается с вещами; только причастный внутреннему свету может знать об этом". "Бхагавадгита" придает такое значение этому превращению человека, что она для "мудреца" не признает даже возможности больше ни заблуждаться, ни впадать в грех. Если может показаться, что он заблуждается или прегрешает, то ему нужно только осветить свои мысли или свои поступки этим светом, перед которым уже не явится более ни заблуждением, ни прегрешением то, что кажется таковым обычному сознанию. "Кто возвысился и чье познание принадлежит к самому чистому роду, тот не убивает и не оскверняется, если бы он даже и убил другого". Этим указывается лишь на основной душевный строй, проистекающий из высочайшего дознания, тот строй, по описании которого в "Этике" у Спинозы вырываются слова: "Этим я заканчиваю то, что я хотел сказать о власти души над аффектами и о свободе души. Отсюда выясняется, насколько мудрый превосходит невежду и насколько он могущественнее последнего, который побуждается только вожделениями. Ибо невежда не только всячески побуждается внешними причинами и никогда не достигает душевного покоя, но и живет в неведении себя, Бога и вещей и вместе со страданием прекращается для него и существование; между тем мудрец, как таковой, едва ощущает в своем духе волнение; он никогда не перестает пребывать в как бы необходимом познании себя, Бога и вещей, и всегда наслаждается истинным душевным покоем. Хотя путь, который я изобразил как ведущий туда, и кажется очень трудным, его все-таки можно найти. И, конечно, он должен быть трудным, потому что его столь редко находят. Ибо возможно ли, чтобы все почти пренебрегали спасением, если бы оно было под рукой и достигалось без большого труда? Между тем все возвышенное столь же трудно, сколь редко".
В величественных словах выразил Гете точку зрения высочайшего познания: "Когда я знаю мое отношение к самому себе и ко внешнему миру, я называю это истиной. И таким образом каждый может иметь свою собственную истину, и это все-таки всегда одна и та же истина". Каждый имеет свою собственную истину, ибо каждый есть индивидуальное и особое существо, наряду и вместе с другими. Эти другие существа воздействуют на него через его органы. С индивидуальной точки зрения, на которую он поставлен, и в зависимости от характера своей способности восприятия, он создает себе в общении с предметами свою собственную истину. Он приобретает свое отношение к предметам. Когда затем настает для него самопознание, когда он узнает свое отношение к самому себе, тогда его обособленная истина превращается в истину всеобщую; эта всеобщая истина во всех одна и та же.
Понимание этого возвышения в личности индивидуального, отдельного Я до Я вселенского более глубокие натуры рассматривают как тайну, раскрывающуюся внутри человека, как изначальную мистерию жизни. Гете и для этого нашел меткое выражение: "И так долго пока ты это не знаешь, этого: умри и будь! - есть ты только сумрачный гость на темной земле".
Не повторением в мыслях, а реальной частью мирового процесса является то, что совершается во внутренней жизни человека. Мир не был бы тем, что он есть, если бы в человеческой душе не совершалось этого принадлежащего миру процесса. И если наивысшее, доступное человеку, называют божественным, то нужно сказать, что это божественное существует не как нечто внешнее, чтобы быть образно повторенным в человеческом духе, но что это божественное пробуждается в человеке. Ангел Силезский нашел для этого настоящие слова: "Я знаю, без меня не может жить и Бог: коль обращусь в ничто, испустит дух и Он". "Не может без меня создать Бог и червя: не поддержу и я с Ним - тотчас рухнет все". Подобное утверждение способен сделать только тот, кто предполагает, что в человеке выявляется нечто такое, без чего не может существовать никакого внешнего существа. Если бы все, что нужно "червяку", существовало и без человека, то невозможно было бы сказать, что он должен будет "рухнуть", если человек его не поддержит.
Наивнутреннейшее ядро мира оживает в самопознании как духовное содержание. Переживание самопознания означает для человека жизнь и деятельность внутри мирового ядра. Кто проникся самопознанием, у того в свете самопознания протекают, конечно, и собственные его поступки. Человеческие поступки определяются - в общем - мотивами. Роберт Гамерлинг (#5), поэт-философ справедливо сказал в своей "Атомистике Воли": "Человек, разумеется, может делать, что хочет; но он не может хотеть, чего хочет, потому что воля его определена мотивами. - Он не может хотеть, чего хочет? Попробуйте поближе рассмотреть эти слова. Есть ли в них разумный смысл? Итак, должна ли свобода хотения или веления состоять в том, чтобы можно было водить чего-либо без основания, без мотива? Но что же значит водить, как не то, что можно иметь основание предпочитать, или охотнее делать то, а не это? Водить чего-либо без основания, без мотива, означало бы водить этой вещи, в то же время ее не воля. С понятием ведения неразрывно связано понятие мотива. Воля без определенного мотива, это - пустая способность: только благодаря мотиву она становится деятельной и реальной. Итак, это совершенно верно: человеческая воля несвободна в том смысле, что ее направление всегда определено сильнейшим из мотивов". Для всякого поступка, который совершается не в свете самопознания, мотив или основание поступка должны ощущаться как принуждение. Иначе обстоит Дело, когда основание коренится в самопознании. Тогда это основание стало частью нашего Я. Ведение уже не определяется более ничем: оно само себя определяет. Закономерность, мотивы воления теперь уже не господствуют больше над водящим, но составляют с ним одно. Осветить светом самонаблюдения законы своей деятельности, значит преодолеть всякую принудительность мотивов. Благодаря этому ведение водворяется в область свободы.
Не всякое человеческое действие носит характер свободы. Только такое действие свободно, которое в каждой своей части проникнуто огнем самонаблюдения. И так как самонаблюдение поднимает индивидуальное Я до Я всеобщего, то свободное действие есть то, которое вытекает из вселенского Я. Старый спорный вопрос: свободна ли воля человека или подчинена всеобщей закономерности, неотвратимой необходимости, - это неправильно поставленный вопрос. Несвободно действие, которое совершает человек как индивидуум; свободно то, которое он совершает после своего духовного возрождения. Таким образом, в общем, человек мм свободен, ни несвободен. Он бывает и тем и другим. Он несвободен до своего возрождения, и он может стать свободным через возрождение. Индивидуальное восходящее развитие человека состоит в превращении несвободного воления в воление, носящее характер свободы. Человек, постигший закономерность своего действия как свою собственную закономерность, преодолел принудительность этой закономерности, а тем самым и несвободу. Свобода не изначальный факт человеческого существования, а его цель.
Приобретая свободу действования, человек тем самым разрешает противоречие между миром и собой. Его собственные действия становятся действиями всеобщего бытия. Он ощущает себя в полном согласии с этим всеобщим бытием. Всякое разногласие между собою и другим он чувствует как результат еще не вполне пробужденного Я. Но такова судьба этого Я, что только в своей отьединенности от Вселенной оно может найти путь присоединения к ней. Человек не был бы человеком, если бы он в качестве "Я" не был бы отъединен от всего иного, но в равной мере он не был бы человеком в высшем смысле, если бы он не сумел из самого себя расшириться до вселенского Я. Человеческому существу безусловно свойственно преодолевать некое изначально в него заложенное противоречие.
Человек, склонный признавать дух только в смысле логического рассудка, почувствует, как стынет в нем кровь при мысли, что вещи должны пережить в духе свое возрождение. Он будет сравнивать свежий, живой цветок, выросший на воле и сверкающий богатством красок, с холодной, бледной, схематической мыслью о цветке. Особенно неловко почувствует он себя при представлении, что человек, черпающий мотивы своих действий из отъединенности своего самосознания, может оказаться свободнее, чем первобытная, наивная личность, действующая по своим непосредственным импульсам, из полноты своей природы. Такому мыслителю, видящему только односторонне-логическую сторону вещей, человек, углубляющийся в свой внутренний мир, должен казаться ходячей логической схемой, каким-то призраком, по сравнению с тем, кто пребывает в своей естественной индивидуальности. - Такого рода возражения против возрождения вещей в духе можно услышать преимущественно от людей, которые хотя и наделены здоровыми органами чувственного восприятия и жизненной полнотой влечений и страстей, но которым отказано в даре наблюдения по отношению к предметам с чисто духовным содержанием. Когда надо воспринять что-нибудь чисто духовное, им недостает созерцания; они принуждены иметь дело только с шелухою понятий, если не с совсем пустыми словами. Поэтому, когда речь заходит о духовном содержании, они остаются "сухими", "абстрактными людьми рассудка". Но кто в чисто духовном обладает таким же даром наблюдения, как и в чувственном, для того жизнь, конечно, не становится беднее, когда он обогащает ее духовным содержанием. Положим, я смотрю на цветок: почему его сочные краски должны хоть сколько-нибудь утратить в своей свежести, если не только мой глаз будет видеть краски, но еще и мое внутреннее чувство будет видеть духовную сущность цветка. Почему должна стать беднее жизнь моей личности, если я не следую в духовной слепоте своим страстям и импульсам, а просветляю их светом высшего познания? Не беднее, а полнее и богаче будет вновь дарованная в духе жизнь.
МЕЙСТЕР ЭКХАРТ
Мир представлений Мейстера Экхарта (#6) насквозь пронизан огнем того ощущения, что в духе человека предметы возрождаются, как высшие существа. Он принадлежит к ордену доминиканцев, как и величайший христианский богослов средневековья Фома Аквинский (#7), живший с 1225 по 1274 г. Экхарт был безусловным почитателем Фомы. Это должно казаться вполне понятным, если принять во внимание весь характер представлений Мейстера Экхарта. Он считал себя в полном согласии с учениями христианской церкви, и такое же согласие предполагал и у Фомы. Экхарт не хотел ничего убавлять в содержании христианства, а также и ничего прибавлять к нему. Но он хотел по-своему воспроизвести это содержание. Суть духовных запросов такой личности, как он, не в том, чтобы ставить те или иные новые истины на место старых. Такая личность совершенно срастается с содержанием, полученным ею по преданию. Но этому содержанию она хочет дать новый облик, новую жизнь. Экхарт, без сомнения, хотел остаться правоверным христианином. Христианские истины были его истинами. Но только по-иному хотел он рассмотреть эти истины, чем это делал, например, Фома Аквинский. Последний допускал два источника познания: откровение в вере и разум в исследовании. Разум познает законы вещей, то есть духовное в природе. Он может также подняться над природой и постигнуть в духе божественное существо, лежащее в основе всей природы, но постигнуть только с одной стороны. Таким образом, он не достигает погружения в полноту всего существа Бога. На помощь разуму должно прийти более высокое содержание истины. Оно дано в Священном Писании. Писание открывает то, чего человек не может достигнуть собственными силами. Он должен принять содержание истины, данное в Писании; разум может защищать его, и может пытаться как можно лучше понять его; но он никогда не может породить его из самого человеческого духа. Не то, что прозревает дух, является верховной истиной, а то, что извне пришло к этому духу. Святой Августин (#8) признает себя неспособным найти в самом себе источник того, чему он должен верить. Он говорит: "Я не поверил бы Евангелию, если бы меня не побуждал к тому авторитет католической церкви". Это в духе евангелиста, который ссылается на внешнее свидетельство: "О том, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о Слове жизни... о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами" (#9). Но Мейстер Экхарт хотел бы поглубже запечатлеть человеку слова Христа: "Лучше для вас, что я ухожу от вас; ибо если я не уйду от вас, вы не сможете получить Духа Святого" (#10). И он поясняет эти словау говоря: "Это как если бы он говорил: вы вложили слишком много радости в мой теперешний образ, поэтому не можете стать причастными совершенной радости Святого Духа". Экхарт полагает, что говорит о том же самом Боге, о котором говорит и Августин, и евангелист, и Фома; и тем не менее их свидетельство о Боге не есть его свидетельство. "Иные люди хотят видеть Бога глазами, как они .видят корову, и хотят любить Бога, как они любят корову. Так любят они Бога ради внешнего богатства и ради внутреннего утешения; но эти люди не истинно любят Бога... Простецы мнят, что они должны увидеть Бога, как если бы он стоял там, а они здесь. Но это не так. Бог и я суть одно в познавании". В основе таких признаний у Мейстера Экхарта лежит не что иное, как опыт внутреннего чувства. И этот опыт являет ему предметы в более высоком свете. Поэтому он полагает, что нет надобности во внешнем свете, чтобы прийти к высочайшим прозрениям: "Один учитель говорит: Бог стал человеком, оттого весь род человеческий вознесен и прославлен. Мы можем радоваться, что Христос, наш брат, собственной силой вознесся над всеми сонмами ангелов и воссел одесную Отца. Этот учитель хорошо сказал; но, по правде, я не придаю этому большого значения. Что мне из того, что у меня богатый брат, когда сам я беден? Или что мне из того, что у меня мудрый брат, когда я сам глупец?.. Небесный Отец рождает своего единородного Сына в себе и во мне. Почему в себе и во мне? Я одно с ним; и он не может исключить меня. Одним и тем же актом получает Дух Святой свое существо и становление от меня, как и от Бога. Почему? Я в Боге, и не беря своего существа от меня, Дух Святой не принимает его и от Бога. Я никаким образом не исключен". Когда Экхарт напоминает слова Павла: "Облекайтесь во Христа Иисуса", то этим словам он придает следующий смысл: углубляйтесь в себя, погружайтесь в самосозерцание: и из глубин вашего существа навстречу вам воссияет Бог; он осветит вам все; вы нашли его в себе; вы стали едиными с существом Бога. "Бог стал человеком для того* чтобы я стал Богом". В своем трактате "Об отрешенности". Экхарт так высказывается об отношении внешнего восприятия к внутреннему: "Здесь должен ты узнать, что говорят учители: в каждом человеке - два человека; один называется внешним человеком, и это - чувственность; этому человеку служат пять чувств, а действует он силою души. Другой человек называется внутренним человеком, это есть внутреннее человека. Так знай же, что каждый человек, любящий Бога, затрачивает на внешнего человека душевных сил не больше, чем того требуют пять чувств; а внутреннее обращается ко внешним чувствам, лишь поскольку оно есть руководитель и наставник пяти чувств и оберегает их, чтобы они не служили своему влечению к животности". Кто так говорит о внутреннем человеке, тот уже не может больше направлять свой взор на вне его лежащую сущность вещей. Ибо ему ясно, что никакой внешний мир не может явить ему этой сущности. Можно было бы возразить ему: какое дело вещам во внешнем мире до того, что ты прибавляешь к ним из своего духа? Основывайся на твоих внешних чувствах. Они одни подают тебе весть о внешнем мире. Не искажай духовной примесью тот образ внешнего мира, который дают тебе твои чувства в чистоте и без примеси. Твой глаз говорит тебе, какова краска; а что познает о краске твой дух, в самой краске ничего этого нет. С точки зрения Мейстера Экхарта надлежало бы ответить: внешние чувства суть физический аппарат. Поэтому их сообщения о вещах могут относиться лишь к физическому в вещах. И это физическое в вещах сообщается мне так, что во мне самом возбуждается физический процесс. Краска, как физический процесс внешнего мира, возбуждает физический процесс в моем глазу ив моем мозгу. Благодаря этому я воспринимаю краску. Но этим путем я могу воспринять от краски только то, что в ней есть физического и чувственного. Чувственное восприятие выключает из вещей все не-чувственное. Оно совлекает с вещей все, что в них есть нечувственного. Переходя же затем к духовному, идеальному содержанию, я только вновь восстанавливаю в вещах все то, что погасило в них чувственное восприятие. Поэтому чувственное восприятие не являет мне глубочайшей сущности вещей; оно, наоборот, разобщает вещи с этой сущностью. А духовное, идеальное постижение вновь соединяет меня с этой сущностью. Оно показывает мне, что во внутреннем своем вещи принадлежат к совершенно той же духовной сущности, что и я сам.
Граница между мной и внешним миром исчезает благодаря духовному постижению. Я отделен от внешнего мира, поскольку я - чувственная вещь среди чувственных вещей. Мой глаз и краска - два различных существа. Мой мозг и растение - две разных вещи. Но идеальное содержание растения и краски, вместе с идеальным содержанием моего мозга и глаза, принадлежат одному целостному, идеальному существу. - Это воззрение не следует смешивать с широко распространенным антропоморфизирующим (очеловечивающим) мировоззрением, которое хочет постигнуть вещи внешнего мира тем, что наделяет их психическими свойствами, похожими на свойства человеческой души. Это воззрение утверждает, что, подходя внешне к другому человеку, мы воспринимаем в нем только чувственные признаки. Я не могу заглянуть во внутренний мир моего ближнего. Из того, что я от него слышу и вижу, я заключаю о его внутреннем, о его душе. Таким образом, душа никогда не является чем-то, что я непосредственно воспринимаю. Душу я воспринимаю только в моем собственном внутреннем опыте. Моих мыслей, образов моей фантазии, моих чувств не видит ни один человек. И подобно тому как я обладаю внутренней жизнью наряду с воспринимаемой внешне, так должны обладать внутренней жизнью и все другие существа. Так заключает тот, кто стоит на точке зрения антропоморфизирующего (очеловечивающего) миросозерцания. То, что я воспринимаю внешне в растении, должно быть так же лишь внешней стороной чего-то внутреннего, какой-нибудь души, которую я должен примышлять к воспринимаемому. А так как для меня существует только единственный внутренний мир, именно - мой собственный, то и внутренний мир других существ я тоже могу представлять себе лишь подобным моему внутреннему миру. Таким путем мы приходим к своему рода одушевлению всей природы (к панпсихизму). Это воззрение основывается лишь на непонимании того, что представляет нам на самом деле развитое внутреннее чувство. Духовное содержание внешней вещи, раскрывающееся мне в моем внутреннем мире, не есть что-то примышляемое к внешнему восприятию. Оно не примышляется к нему, как не примышляется дух другого человека. Внутренним чувством я воспринимаю это духовное содержание совершенно так же, как внешними чувствами - содержание физическое. И то, что было названо выше моей внутренней жизнью, вовсе не есть мой дух в высшем смысле. Эта внутренняя жизнь есть лишь результат чисто чувственных процессов; она принадлежит мне только как совершенно индивидуальной личности, которая есть не что иное, как лишь результат своей физической организации. Когда я переношу это мое внутреннее на внешние вещи, я на самом деле просто выдумываю. Моя личная душевная жизнь, мои мысли, воспоминания и чувства присущи мне, потому что я - организованное таким-то образом природное существо, с совершенно определенным аппаратом внешних чувств и с совершенно определенной нервной системой. Эту мою человеческую душу я не вправе переносить на вещи. Я был бы вправе это сделать только в том случае, если, бы нашел где-нибудь организованную подобным же образом нервную систему. Но моя индивидуальная душа не есть самое высшее духовное во мне. Это наивысшее духовное должно быть сначала пробуждено во мне посредством внутреннего чувства. И это пробужденное духовное во мне тождественно с духовным во всех вещах. Перед этим духовным растение предстает непосредственно в своей собственной духовности. Мне незачем наделять его духовностью, похожей на мою собственную духовность. Для этого мировоззрения все разговоры о неведомой "вещи в себе" теряют всякий смысл. Ибо то, что раскрывается внутреннему чувству, это и есть именно "вещь в себе". Все такие разговоры происходят только оттого, что авторы их неспособны в духовном содержании своего внутреннего мира узнать "вещь в себе". Они думают, что в своем внутреннем они узнают только бессущностные тени и схемы, "только понятия и идеи" вещей. Но так как у них все же есть смутное подозрение о "вещи в себе", то они думают, что эта "вещь в себе" где-то скрывается и что человеческой способности познания поставлены границы. Людям, убежденным в этом, невозможно доказать, что они должны постичь "вещь в себе" в своем внутреннем опыте; ибо, если бы им даже представили эту "вещь в себе", они все равно никогда не признали бы ее. А все дело именно в этом признании. - Все, что говорит Мейстер Экхарт, проникнуто этим признанием. "Вот тебе сравнение: дверь отворяется и затворяется на петлях. Если дверную створку я сравню с внешним человеком, то петлю - с внутренним. Когда дверь отворяется и затворяется, створка движется взад и вперед, между тем как петля остается неподвижной на своем месте и нисколько не меняется от этого. Так и здесь". Как индивидуальное, чувственное существо, я могу со всех сторон исследовать вещи - дверь отворяется и затворяется; но если этим восприятиям внешних чувств я не даю воскреснуть во мне духовно, то я не знаю ничего об их сущности - петля остается неподвижной. - Это сообщаемое внутренним чувством просветление, по воззрению Экхарта, есть вхождение Бога в душу. Свет познания, вспыхивающий благодаря этому вхождению, он называет "искоркой души". Место во внутренней глубине человека, где вспыхивает эта "искорка", "так чисто, и так возвышенно, и так благородно само по себе, что там не может пребывать никакое творение, а только Бог один обитаем там своей чистой божественной природой". Кто дал загореться в себе этой "искорке", тот видит уже не только так, как видят люди - внешними чувствами и логическим рассудком, приводящим в порядок и распределяющим впечатления внешних чувств; но он видит, каковы вещи в себе. Внешние чувства и упорядочивающий рассудок разобщают отдельного человека с другими вещами; они делают его индивидуумом в пространстве и времени, воспринимающим и другие вещи точно так же в пространстве и времени. Озаренный "искоркой", человек перестает быть отдельным существом. Он уничтожает свою отъединенность. Прекращается все, что производит различие между ним и вещами. Тот факт, что воспринимает именно он, как единичное существо, не играет больше никакой роли. Вещи и он уже больше не разобщены. Вещи, а вместе с тем и Бог, зрят в нем себя. "Эта искорка есть Бог, так что она совсем одно с Ним и несет в себе образ всех творений, образ без образа и образ сверх образа". Прекрасно характеризует Экхарт это погашение отдельного существа: "И посему надлежит знать, что это одно для вещей - познавать Бога и быть познаваемыми Им. В том познаем и видим мы Бога, что Он делает нас познающими и видящими. Как и воздух, который освещает, есть не иное, как то, что его освещает, - ибо оттого светит он, что он освещает, - так познаем и мы, оттого что мы познаны и что он соделывает нас познающими" .
На этой основе строит Мейстер Экхарт свое отношение к Богу. Оно чисто духовно и не может быть оформлено ни по какому образу, заимствованному из индивидуальной человеческой жизни. Не так может Бог любить свое творение, как отдельный человек любить другого; не так может Бог созидать мир, как зодчий строит дом. Все подобного рода мысли исчезают перед внутренним созерцанием. Что Бог любит мир, это принадлежит к существу Его. Бог, могущий любить, а также и не любить, создан по образу индивидуального человека. "Говорю по истинной правде, и по вечной правде, и по неизменной правде, что должен Бог излиться всею силою своей в каждого человека, углубившегося до дна; должен излиться по всему существу своему и столь всецело, чтобы ни в жизни своей, ни в сущности своей, ни в естестве своем, ни даже в самом Божестве своем не сохранить ничего для себя; но щедрый плод принося, всецело излиться в человека". И внутреннее просветление есть нечто такое, что душа должна необходимо обрести, если она углубится до дна. Уже отсюда следует, что сообщение Бога человечеству нельзя представлять себе по образу того, как один человек открывается другому. Последнего может и не произойти. Человек может замкнуться перед человеком. Бог должен, по самому существу своему, сообщить себя. "Это достоверная истина, что для Бога совершенно необходимо, чтобы Он искал нас, воистину так, как если бы все Божество его зависело от этого. Бог так же не может терпеть отсутствия нас, как и мы - Его. Хотя бы мы и отвратились от Бога, Бог никогда не может отвратиться от нас". Сообразно с этим и отношение человека к Богу нельзя понимать так, как если бы в нем содержалось что-то образное, заимствованное из индивидуально человеческого. Экхарт сознает, что для совершенства изначального существа мира ему необходимо обретать себя в человеческой душе. Это изначальное существо было бы несовершенно, более того, незаконченно, если бы ему недоставало той составной части полноты его, которая проявляется в душе человека. Происходящее в человеке принадлежит к первосуществу; в противном случае первосущество было бы только частью самого себя. В этом смысле человек вправе чувствовать себя необходимым членом мирового существа. Экхарт выражает это так, описывая свои ощущения по отношению к Богу: "Я не благодарю Бога за то, что Он любит меня, ибо не любить Он не может; хочет ли Он того или нет, Его природа принуждает Его... И потому я не хочу просить Бога, чтобы Он мне что-либо дал, не хочу и славить Его за то, что Он мне дал"....
Но это отношение души к первосуществу нельзя* понимать так, что душа, в ее индивидуальной сущности, объявляется как бы единой с этим первосуществом. Душа, погруженная в чувственный мир и, тем самым, в конечное, еще не имеет в себе, как таковая, содержания первосущества. Она должна сначала развить его в себе. Она должна уничтожить себя как отдельное существо. Очень точно характеризует Мейстер Экхарт это уничтожение как "совлечение всякого становления" (Entwerdung). "Когда я углубляюсь в основание Божества, никто не спрашивает меня, откуда я пришел и где я был, и никто не ощущает моего отсутствия, ибо здесь совлекаюсь я становления". Ясно говорят об этом и следующие слова: "Я беру сосуд с водой и кладу в него зеркало, и подставляю его под лучи солнца. Солнце излучает в зеркало свое светлое сияние, и все же не убывает. Отражение зеркала в солнце есть солнце в солнце, и все же зеркало остается тем, что оно есть. Так и с Богом. Своей природой, своей сущностью и своим Божеством Бог присутствует в душе, и все же Он не есть душа. Отражение души в Боге есть Бог в Боге, душа же остается тем, что она есть".
Душа, отдающаяся внутреннему просветлению, познает в себе не только то, чем она была до просветления; но она познает и то, чем она становится через это просветление. "Мы должны соединиться с Богом сущностно; мы должны соединиться с Богом в единство; мы должны соединиться с Богом всецело. Как должны мы соединиться с Богом сущностно? Это должно произойти в видении, а не в существовании. Его существо не может стать нашим существом, но должно быть нашей жизнью". Не наличная жизнь, не существование должно быть познано в логическом смысле, но высшее познание - видение - должно само стать жизнью; духовное, идеальное должно так ощущаться созерцающим человеком, как ощущается индивидуальной человеческой природой обычная, повседневная жизнь.
Исходя из этого, Мейстер Экхарт приходит к чистому понятию свободы. В обычной жизни душа не свободна. Ибо она погружена в царство низших причин. Она исполняет то, к чему принуждают ее эти низшие причины. "Видение" поднимает ее из области этих причин. Она действует уже не как отдельная душа. В ней освобождается первосущество, которое не может быть обусловлено уже более ничем, кроме самого себя. "Бог не принуждает волю; напротив, Он.водворяет ее в свободу, так что она не хочет ничего иного, нежели чего хочет сам Бог. И дух не может хотеть ничего иного, нежели чего хочет Бог; и это не есть его несвобода, это его настоящая свобода. Ибо свобода в том, чтобы мы были несвязанными, чтобы мы были такими же свободными, чистыми и беспримесными, как мы были, когда мы впервые проистекли и когда мы были освобождены в Святом Духе". О просветленном человеке можно сказать, что он сам - то существо, которое из себя определяет добро и зло. Он не может совершить ничего, кроме добра. Ибо не он служит добру, но добро изживается в нем. "Праведный человек не служит ни Богу, ни творениям; ибо он свободен, и чем ближе он к праведности, тем более он - сама свобода". Чем же тогда может быть зло для Мейстера Экхарта? Зло может быть только действием, совершенным под влиянием низшего образа воззрений; действием души, не прошедшей через совлечение с себя всякого становления. Такая душа себялюбива в том смысле, что она хочет только себя. Она может только внешне привести свое воление в согласие с нравственными идеалами. Созерцающая душа не может быть в этом смысле себялюбивой. Даже и желая себя, она все же желает господства идеального; ибо она сделала себя этим идеалом. Она уже не может больше хотеть целей низшей природы, ибо у нее нет больше ничего общего с этой низшей природой. Действовать в духе нравственных идеалов не означает для созерцающей души ни принуждения, ни лишения. "Для человека, пребывающего в Божьей воле и в Божьей любви, для него радость - делать все добрые дела, которых хочет Бог, и не делать злых, которые противны Богу. И для него невозможно не исполнить дела, о котором Бог хочет, чтобы оно было исполнено. И как невозможно ходить тому, у кого связаны ноги, так же невозможно человеку, пребывающему в Божьей воле, совершить злодеяние". Экхарт особенно возражает против того, будто этим его воззрениям дается отпускная на все, чего бы ни захотел отдельный человек. По тому-то именно и познается созерцающий, что он ничего больше не хочет, как отдельный человек.
"Говорят иные люди: если у меня есть Бог и Божья свобода, то значит, мне можно делать все, что захочу. Эти слова они понимают неверно. Пока ты способен на что-либо противное Богу и его заповеди, ты не имеешь любви Божьей, хотя и можешь, конечно, обманывать мир, будто она у тебя есть". Экхарт убежден, что душу, углубившуюся до своей основы, встречает в этой основе сияние совершенной нравственности, и что там прекращается всякое логическое разумение и всякое действование в обычном смысле и начинается совсем новый строй человеческой жизни. "Ибо все, что может понять разумение и чего домогается вожделение, все это не есть ведь Бог. Где кончается разумение и вожделение, там темно; там светит Бог. Там раскрывается в душе та сила, что глубже, чем далекое небо... Блаженство праведных и блаженство Божье - одно и то же блаженство; ибо праведный блажен, когда блажен Бог".
ДРУЗЬЯ БОЖЬИ
Знакомясь с такими личностями, как Иоанн Таулер (1300-1361) (#11), Генрих Сузо (1295-1365) (#12) и Иоанн Рэйсбрук (1293-1381) (#13), мы видим, как в жизни и деятельности этих глубочайших натур самым настойчивым образом обнаруживают себя душевные движения, обусловленные тем путем духовного восхождения, которым шел и Мейстер Экхарт. Если Мейстер Экхарт представляется человеком, который в блаженных переживаниях духовного возрождения говорит, о свойстве и сущности познания как о картине, которую ему удалось нарисовать, то упомянутые личности представляются странниками, которым это возрождение указало новый путь; они хотят идти этим путем, но цель его отодвигается для них в бесконечную даль. Экхарт больше описывает великолепие своей картины; они - трудности нового пути. Чтобы душа могла уловить различие между такими личностями, как Экхарт и Таулер, следует добиться полной ясности в том, в каком отношении стоит человек к своему высшему познайию. Человек погружен в чувственный мир и в закономерность природы, господствующую над чувственным миром. Он сам - порождение этого мира. Он живет тем, что в нем действуют силы и вещества этого мира; более того, он воспринимает этот чувственный мир и судит о нем по законам, по которым построен и этот мир и он сам. Когда он обращает свой взор на какой-нибудь предмет, то не только предмет представляется ему суммой взаимодействующих сил, управляемых законами природы, но и сам глаз является телом, построенным по тем же законам и теми же силами; по тем же законам и с помощью тех же сил происходит и зрение. Если бы мы дошли до конца в естествознании, то мы могли бы проследить эту игру природных сил, в смысле законов природы, вплоть до самых высоких областей образования мыслей. - Но поступая так, мы тем самым поднимаемся уже над этой игрой. Не стоим ли мы над всякой чисто природной закономерностью, когда обращаем наш взор на то, как мы себя включаем в состав природы? Мы видим нашими глазами по законам природы. Но мы знаем еще и законы, по которым мы видим. Мы можем подняться на более высокий наблюдательный пункт и одновременно окинуть взором и внешний мир, и нас самих, в их взаимодействии. Не действует ли в нас тогда существо более высокое, чем чувственно-органическая личность, действующая посредством природных сил и по природным законам? Разве есть в такой деятельности еще какое-нибудь средостение между нашим внутренним миром и внешним? То, что здесь произносит суждение и приходит к познанию, это уже не наша отдельная личность; это - всеобщее мировое существо, низвергшее преграду между внутренним миром и внешним и отныне объемлющее их обоих. И как верно то, что, низвергнув таким образом эту преграду, я остаюсь, по внешнему проявлению, еще все тем же отдельным человеком, так же верно и то, что по существу я уже более не этот отдельный человек. Отныне во мне живет ощущение, что в моей душе говорит вселенское существо, которое объемлет и меня, и весь мир. - Такие ощущения живут и в Таулере, когда он говорит: "Воистину человек таков, как будто он - три человека: его животный человек, каков он по своим внешним чувствам; затем, его разумный человек, и наконец, его верховный, богообразный человек. Один - наружный, животный, чувственный человек, другой - внутренний, разумный человек, с его разумными силами; третий человек - это ум, наивысшая часть души". В какой степени третий человек выше первого и второго, Экхарт выразил так: "Глаз, которым я вижу Бога, это тот же глаз, которым Бог видит меня. Мой глаз и Божий глаз, это один глаз, и одно зрение, и одно познавание, и одно ощущение". Но в Таулере, одновременно с этим ощущением, живет еще другое. Он пробивается к действительному созерцанию духовного и не смешивает постоянно, как это делают ложные материалисты и ложные идеалисты, чувственно-природное с духовным. Если бы Таулер с его образом мышления сделался естествоиспытателем, он должен был бы настаивать на чисто естественном объяснении всего природного, включая и всего человека, первого и второго. Он никогда не поместил бы "чисто" духовных сил в саму природу. Он не стал бы говорить о какой-то мыслимой по человеческому образцу "целесообразности" в природе. Он знал, что там, где мы воспринимаем внешними чувствами, нельзя найти "творческих мыслей". Напротив, в нем жило самое ясное сознание, что человек есть чисто природное существо. А так как он чувствовал себя не естествоиспытателем, а был поглощен задачами нравственной жизни, то он ощущал эту противоположность раскрывающуюся между природным существом человека и созерцанием Бога - созерцанием, которое возникает среди этой природности естественным образом, но как нечто духовное. Именно в этой противоположности и предстал его взору смысл жизни. Человек застает себя как отдельное существо, как творение природы. И никакая наука не может сказать ему относительно этой жизни ничего иного, как то, что он есть творение природы. Как творение природы, он не может выйти за пределы природной Тварности. Он принужден оставаться в ней. И однако внутренняя его жизнь выводит его за ее пределы. Он должен иметь доверие к тому, чего не может ему ни дать, ни показать наука о внешней природе. Если он называет сущим только эту природу, то он должен быть в состоянии возвыситься до воззрения, которое признает высшим не-сущее. Таулер не ищет Бога, действующего наподобие природной силы; он не ищет Бога сотворившего мир, в смысле творения человека. В нем живет познание, что даже само понятие творения у учителей церкви есть лишь идеализированное творчество человека. Ему ясно, что нельзя найти Бога тем путем, которым наука находит деяния природы и природную закономерность. Таулер сознает, что мы отнюдь не вправе примышлять чего-либо к природе в качестве Бога. Он знает, что кто мыслит Бога согласно ему, тот в своем мысленном содержании обнимает не больше, чем тот, кто мыслит природу. И потому Таулер стремится не к тому, чтобы мыслить Бога, но чтобы мыслить божественно. Познание природы не обогащается через знание Бога, но преображается. Познающий Бога знает не иное, чем познающий природу, но знает по-иному. Ни одной буквы не может познающий Бога прибавить к познанию природы; но все его познание природы озаряется новым светом.
Какие основные ощущения овладевают душой человека, рассматривающего мир с подобной точки зрения, это зависит от того, как он смотрит на это переживание души, приносящее ему духовное возрождение. В пределах этого переживания человек - вполне природное существо, когда он рассматривает себя во взаимодействии с остальной природой; и он вполне духовное существо, когда взирает на состояние, сообщаемое ему его преображением. Поэтому с одинаковым правом можно сказать, что глубочайшая основа души еще природна, и - что она уже божественна, Таулер, согласно своему образу мышления, ставит упор на первое. Как бы глубоко мы ни проникли в нашу душу, мы всегда остаемся отдельными людьми, говорил он себе. Однако в душевной основе, этого отдельного человека загорается свет существа Вселенной. Таулер был охвачен чувством: ты не можешь вырваться из обособленности, не можешь очиститься от нее. Поэтому существо Вселенной не может выявиться в тебе во всей своей чистоте, а может только осветить основу твоей души. Таким образом, в этой основе возникает только отблеск, только образ существа Вселенной. Ты можешь так преобразить свою отдельную личность, что она будет в образе отражать существо Вселенной; но само это существо не просияет в тебе. Исходя из таких представлений, Таулер пришел к мысли о Божестве, никогда всецело не восходящем в человеческом мире, никогда в него не изливающемся. Более того, он даже не хочет, чтобы его смешивали с теми, кто признает божественным сам этот внутренний мир человека. Он говорит, что соединение с Богом "неразумные люди понимают по-плотски и говорят, что им надлежит преобразиться в божественную природу; но это неверно, и это злая ересь. Ибо даже при самом высочайшем, теснейшем единении с Богом все же божественная природа и божественная сущность остаются высоко, и даже превыше всех высот; и то, что никогда не достается ни одной твари, уходит в божественную бездну".
Таулер по справедливости хочет называться верующим католиком, в духе своего времени и в духе своего священнического призвания. Он вовсе не стремится противопоставить христианству какое-либо другое воззрение. Он хочет только углубить, одухотворить это христианство своим воззрением. Он говорит о содержании Писания, как благочестивый священник. Однако в мире его представлений Писание становится средством для выражения сокровеннейших переживаний его души. "Бог творит все свои дела в душе, и дарует их душе; и Отец рождает своего единородного Сына в душе столь же истинно, как он рождает его в Вечности, не менее того и не более. Что рождается, когда говорят: Бог рождает в душе? Подобие ли Божие, или образ Бога, или нечто Божие? Нет, это не образ И не подобие Бога, но тот самый Бог и тот самый Сын, которого рождает Отец в Вечности, и не иное что, как исполненное любви божественное Слово, которое есть второе лицо в триединстве. Его рождает Отец в душе... и оттого имеет душа такое великое и необыкновенное достоинство". - Рассказы Писания становятся для Таулера одеянием, в которое он облекает процессы внутренней жизни. "Ирод, преследовавший младенца и хотевший его убить, это прообраз мира, который все еще хочет убить это дитя в верующем человеке; поэтому нужно и должно бежать от мира, если мы хотим сохранить в нас дитя живым; дитя же есть просветленная верующая душа каждого человека".
И оттого, что взор Таулера направлен на природного человека, для него не так важно объяснить, что совершается при вступлении высшего человека в природного, но - как найти пути, на которые должны стать низшие силы личности, если мы хотим перевести их в высшую жизнь. Как человек, озабоченный нравственной жизнью, он хочет указать человеку пути к существу Вселенной. У него есть безусловная вера и упование, что существо Вселенной просияет в человеке, если он устроит свою жизнь так, что в нем будет обитель для божественного. Но никогда это существо не может просиять в нем, если человек замыкается в своей чисто природной, отдельной личности. Этот обособленный в себе человек только.отдельный член мира; отдельная тварь, на языке Таулера. Чем больше человек замыкается в это свое существование, как члена мира, тем меньше может найти в нем место существо Вселенной. "Если человек хочет воистину стать одно с Богом, то и все силы внутреннего человека должны умереть и умолкнуть. Воля должна отрешиться даже от образа добра и от всякого воления и стать безвольной". "Человек должен устраниться от всех внешних чувств и обратить назад все свои силы, и прийти к забвению всех вещей и самого себя". "Ибо истинное и вечное Слово Божие произносится только в пустыне, когда человек вышел из самого себя и из всех вещей, и стоит совершенно праздный, пустой и одинокий".
Когда Таулер уже достиг своей высоты, вся жизнь его представлений сосредоточилась на вопросе: как может человек уничтожить, преодолеть в себе свое отдельное бытие, чтобы жить в духе вселенской жизни? Кто пришел к этому, у того все чувства по отношению к существу Вселенной концентрируются в одно: в благоговейный трепет перед этим существом Вселенной, как перед неисчерпаемым и бесконечным. Он говорит себе: какой бы ступени ты ни достиг, есть еще более обширные кругозоры, еще более возвышенные возможности. И если для него определилось и стало ясным направление, в котором он должен идти, то не менее ясно ему и то, что он никогда не может говорить о цели. Новая цель - лишь начало нового пути. Благодаря новой цели человек достигает некоторой степени развития, само .же развитие уходит в неизмеримость. И чего оно достигает на более отдаленной ступени, этого оно никогда не знает на настоящей. Не существует познания последней цели; существует только доверие к пути, к развитию. Для всего уже достигнутого человеком существует познание. Оно состоит в проницании уже наличного предмета силами нашего духа. Для высшей внутренней жизни такого познания нет. Здесь силы > нашего духа должны сначала водворить в наличность самый предмет; они должны сначала создать для него существование, такое же, как и природное существование. Естествознание прослеживает развитие существ от простейшего до самого совершенного, до самого человека. Это развитие лежит перед нами законченным. Мы познаем его, проницая его силами нашего духа. Когда это развитие доходит до человека, он не находит впереди никакого наличного продолжения. Он сам выполняет дальнейшее развитие. Отныне он живет в том, что, по отношению к прежним ступеням, он только познает. Он предметно создает то, что, по отношению к предыдущему, он только воссоздает по духовной сущности. Что истина не едина с существующим в природе, но охватывает как природно-существующее, так и не-существующее: этим всецело исполнен Таулер во всех своих ощущениях. Существует предание, что он был приведен к этому одним просвещенным мирянином, неким "другом Божьим из Оберланда". Это таинственная история. Где жил этот "друг Божий", об этом существуют только догадки, а кто он был, об этом нет даже и догадок. По-видимому, он много слышал о характере проповедей Таулера и после этих рассказов решил поехать к нему в Страсбург, где тот был проповедником, чтобы исполнить по отношению к нему какую-то задачу. Описание отношений Таулера с "другом Божьим" и влияния, которое последний имел на него, мы находим в сочинении, приложенном к старейшим изданиям проповедей Таулера, под заглавием "Книга учителя". Некий "друг Божий", в котором хотят видеть того самого, что вступил в общение с Таулером, повествует в ней об одном "учителе", в котором хотят видеть самого Таулера. Он рассказывает, как с одним учителем произошло внезапное обращение, духовное возрождение; и как этот учитель, почувствовав приближение смерти, призвал к себе друга и просил его написать историю его "просветления", но одновременно позаботиться и о том, чтобы никто никогда не узнал, о ком идет речь в этой книге. Он просил об этом на том основании, что все исходящие от него познания на самом деле исходят не от него. "Ибо знайте: все через меня, жалкого бедняка, сделал Бог; так оно и есть, все это не мое, а Божье". Научный спор, завязавшийся вокруг этого вопроса, не имеет решительно никакого значения для, существа дела. С одной стороны, пытались доказать, что "друга Божьего" никогда и не было, что его существование вымышлено и приписанные ему книги написаны другим (Рульманом Мерсвином) (#14). С другой стороны, Прегер многочисленными доводами старался отстоять как существование его, так и подлинность сочинений и достоверность относящихся к Таулеру фактов. - Мне незачем освещать здесь путем кропотливого исследования эти обстоятельства человеческой жизни, о которых всякий, умеющий читать подобные сочинения, прекрасно понимает, что они должны оставаться тайной. (Эти сочинения, которые имеются здесь в виду, суть, между прочим, следующие: О неком самовольном мирском мудреце, который одним святым мирянином священником наставлен был на смиренное послушание, 1338; Книга о двух мужах; Пленный рыцарь, 1349; Духовная тропа, 1350; О духовной лестнице, 1357; Книга учителя, 1369; Повесть о двух пятнадцатилетних отроках). Если сказать о Таулере, что на известной ступени его жизни с ним произошло превращение, подобное тому, которое будет сейчас описано, то этого совершенно достаточно. При этом личность самого Таулера не играет больше никакой роли; дело идет о человеческой личности "вообще". Что касается самого Таулера, то нам важно только понять его превращение с указанной в дальнейшем точки зрения. Если мы сравним его позднейшую деятельность с предыдущей, то факт этого превращения станет без дальних слов ясен. Я оставлю в стороне все внешние факты и скажу только о внутренних душевных переживаниях "учителя" под "влиянием мирянина". Что представляет себе мой читатель под "мирянином" и под "учителем", это зависит всецело от его духовного строя; а что я сам себе представляю под ними - я не знаю, для кого это может иметь значение. - Один учитель поучает своих слушателей об отношении души к существу Вселенной. Он говорит, что когда человек погружается в бездну своих душевных глубин, то он уже больше не чувствует в себе действия природных, ограниченных сил отдельной личности. Тогда Говорит уже не отдельный человек, тогда говорит Бог. Тогда не человек видит Бога или мир; тогда Бог видит самого себя. Человек стал одно с Богом. Но учитель знает, что это учение еще не сделалось в нем совершенно живым. Он мыслит его рассудком; но он еще не живет в нем всей своей личностью.
Следовательно, он поучает о таком состоянии, которого он не прошел еще вполне в самом себе. Описание этого состояния соответствует истине; но эта истина ничего не стоит, если она не станет живой, если она не породит себя в действительности, как бытие. До "мирянина" или "друга Божия" доходит слух об этом учителе и об его учении. Он не менее, чем сам учитель, проникнут истиной, которую высказывает учитель. Но для него эта истина не предмет рассудка. Для него она составляет всю силу его жизни. Он знает, что если эта истина навеяна извне, то человек может высказывать ее, ни в малейшей степени не живя в ее духе. Тогда в нем нет ничего, кроме природного рассудочного познания. Он тогда может говорить об этом познании, как если бы оно было высочайшим и равным с деятельностью существа Вселенной. Но это не так, ибо оно не приобретено в такой жизни, которая подошла к этому познанию уже в преображенном, возрожденном состоянии. Все приобретенное им, как только природным человеком., так и остается только природным, хотя бы он вслед за тем и выразил в словах основную черту высшего познания. Из самой природы должно произойти это преображение. Природа, которая, живя, развилась до известной ступени, должна через жизнь развиваться и дальше; новое должно возникать через это дальнейшее развитие. Человек не должен только оглядываться назад на пройденное уже развитие и называть наивысшим то, что он воссоздает в своем духе относительно этого развития; но он должен глядеть вперед на несозданное; его познание должно быть началом нового содержания, а не концом прежнего, заключенного в уже пройденном развитии. Природа движется от червя к млекопитающему, от млекопитающего к человеку, не в логическом, а в действительном процессе. Человек не должен ограничиваться только повторением этого процесса в духе. Духовное повторение есть только начало нового действительного развития, которое, однако есть духовная действительность. Тогда человек не только познает произведение природы; но он продолжает природу; он претворяет свое познание в живое действие. Он рождает в себе дух, и этот дух шествует затем вперед, от одной ступени развития к другой, как шествует вперед природа. Дух начинает природный процесс на более высокой ступени. Слова о Боге, созерцающем самого себя во внутреннем существе человека, принимают другой характер у того, кто это познал. Он не придает большого значения тому, что достигнутое им познание привело его в глубины существа Вселенной; зато его духовный склад приобретает новый отпечаток: он развивается дальше в направлении, которое начертано существом Вселенной. Такой человек не только иначе смотрит на мир, чем человек чисто рассудочный; но иначе проживает жизнь. Он не говорит больше о смысле, который уже присущ этой жизни благодаря силам и законам мира; но он дает этой жизни новый смысл. Как рыба не содержит в себе того, что на позднейшей ступени развития выявляется как млекопитающее, так и человек рассудка еще не содержит в себе того, что должно родиться из него как высший человек. Если бы рыба могла познавать себя и окружающие ее вещи, она в своем рыбьем бытии усматривала бы смысл жизни. Она говорила бы: существо Вселенной подобно рыбе; в рыбе оно видит самое себя. Так могла бы говорить рыба, пока она держалась бы одного только рассудочного познания. В действительности она не придерживается его. Своим действием она выходит за пределы своего познания. Она становится пресмыкающимся, а позже - млекопитающим. Смысл, который она придает себе в действительности, выходит за пределы того смысла, который диктуется ей простым рассмотрением. Так должно быть и у человека. Он придает себе некоторый смысл в действительности; но он не остается при том смысле, который у него уже есть и который являет ему его размышление. Познание вырывается за пределы самого себя, если только оно правильно себя понимает. Познание не может выводить мир из уже готового Бога; оно может только развиваться из зачатка по направлению к Богу. Человек, который это понял, не будет рассматривать Бога как что-то находящееся вне его; он будет рассматривать Бога как существо, которое вместе с ним идет к одной цели, вначале столь же ему неизвестной, как неизвестна рыбе природа млекопитающего. Не познавателем скрытого или открывающегося и уже сущего Бога хочет он быть, а другом божественного, другом над бытием и небытием возвышенной божественной деятельности. "Другом Божьим" в этом смысле и был мирянин, пришедший к учителю. И через него учитель, из размышляющего над сущностью Бога, стал "живым в духе", который .уже не только размышлял, но и жил в высшем смысле. Теперь он уже не черпал больше рассудочных идей и понятий своего внутреннего мира, но сами эти понятия и идеи теснились из него, как живой сущностный дух. Он уже не поучал только своих слушателей: он потрясал их. Он не погружал больше их души в их внутренний мир: он вводил их в новую жизнь. Это рассказывается нам символически: около сорока человек упали на землю во время его проповедей и были как мертвые.
Руководством к такой новой жизни может служить одна книга, об авторе которой ничего не известно. Лютер впервые обнародовал ее в печати. Лингвист Франц Пфейфер напечатал ее заново по рукописи, относящейся к 1449 году, ж притом с параллельным переводом первоначального текста на новонемецкий язык. Вступительные слова к книге указывают на ее цель и намерение: "Здесь начинает автор, родом из Франкфурта, и говорит весьма высокие и прекрасные вещи о совершенной жизни". К ним примыкает и "Предисловие о Франкфуртце": "Эту книжечку высказал всемогущий вечный Бог через мудрого, рассудительного, правдивого, праведного человека, своего друга, который в былые времена был знатным немецким рыцарем, а ныне священник и хранитель в немецкой Рыцарской Палате во Франкфурте; она поучает весьма многим прекрасным познаниям божественной истины, и в особенности тому, как и по чему можно узнать истинных, праведных друзей Божиих, а также неправедных, ложных вольнодумцев, которые весьма вредны святой церкви". - Под "вольнодумцами" можно разуметь людей, живущих в мире тех же представлений, что и описанный выше "учитель" до своего обращения "другом Божьим", а под "истинными, праведными друзьями Божьими" - людей с душевным строем "мирянина". Кроме того, можно приписать этой книге намерение подействовать на своих читателей в том же духе, как подействовал на учителя "друг Божий из Оберланда". Автор ее неизвестен. Неизвестно, ни когда он родился, ни когда умер, ни чем занимался во внешней жизни. Тот факт, что автор стремится набросить покров вечной тайны на эту сторону своей жизни, уже характеризует тот род воздействия, которого он хотел достигнуть. Не это в определенный момент родившееся "Я" того или иного человека должно говорить с нами, но самый принцип "Я", на основе которого впервые развивается "обособленность индивидуальностей" (в том смысле, в каком употреблено это выражение у Пауля Асмуса, ср. выше, стр. 342). "Если бы Бог взял на себя всех людей, какие есть и когда-либо были, и в них вочеловечился, и они бы в нем оббжились, и не случись этого также и со мной, я никогда не восстал бы из моего падения, из моего отвержения, разве только - если бы это произошло и во мне. И в этом восстании и исправлении я не могу, и не вправе, и не должен делать для него ничего иного, как единственно только претерпевать, так чтобы Бог один вершил и творил во мне все, а я претерпевал все его дела и его божественную волю. Если же я не хочу претерпевать этого, а обладаю такими свойствами, как: я, мое, меня, мне, и тому подобное, то это препятствует Богу без помехи и одному совершать во мне свое дело. А потому и мое падение и мое отвержение остаются неисправленными". "Франкфуртец" не хочет говорить как отдельный человек; он хочет предоставить говорить Богу. Он, конечно, знает, что может сделать это только как отдельная, обособленная личность; но он - "друг Божий", т. е. человек, который стремится не к тому, чтобы посредством размышлений выражать сущность жизни, а чтобы посредством живого духа указывать начало пути развития. Рассуждения в этой книге сводятся к различным наставлениям, как найти этот путь. Все снова и снова повторяется основная мысль: человек должен сбросить с себя все, что связано с воззрением, представляющим его как отдельную обособленную личность. Эта мысль проводится, по-видимому, лишь по отношению к моральной жизни, но ее можно непосредственно перенести и на высшую познавательную жизнь. Надо уничтожить в себе все, что является обособленностью: тогда прекращается обособленное существование; в нас вступает вселенская жизнь. Мы не можем овладеть этой жизнью, если станем притягивать ее к себе. Она входит в нас, когда мы приводим в себе к молчанию наше отдельное бытие. Всего менее обладаем мы этой вселенской жизнью именно тогда, когда рассматриваем наше отдельное существование, как если бы в нем уже покоилось "все". Это "все" только тогда раскрывается в единичном бытии, когда последнее не притязает на то, чтобы быть чем-либо. Это притязание отдельного бытия книга называет "приятием". Благодаря "приятию" Я делает для себя невозможным, чтобы в него вселилось Я вселенское. Я ставит себя тогда как часть, как несовершенное, на место целого и совершенного. "Совершенное есть существо, которое в себе и в существе своем объяло и заключило всех существ, и без него и вне его нет истинного существа, и в нем все вещи Имеют существо свое. Ибо оно есть существо всех вещей, и в себе самом неизменно и недвижно, и изменяет и движет все другие вещи. Раздельное же и несовершенное есть то, что произошло, или что становится из совершенного - совсем так же, как блеск или сияние, которое исходит от солнца ,или от какого-нибудь света и освещает то или иное. И это означает тварь, и ни одно из всех этих раздельных не есть совершенное. А также и совершенное не есть ни одно из этих раздельных... Когда приходит совершенное, то человек пренебрегает раздельным. Когда же оно приходит? Я говорю: когда оно по возможности бывает познано, ощущено и отведано в душе; ибо недостаток заключается всецело в нас, а не в нем. Ибо так и солнце освещает весь мир и одинаково близко всем, а слепой его все-таки не видит. Но эта вина не солнца, а слепого... Чтобы мой глаз мог видеть, он должен очиститься, или же быть чистым от всех других вещей... Теперь нам, может быть, скажут: если оно непознаваемо и непостижимо для всех тварей, душа же есть тварь, то как же оно тогда может быть познано в душе?" Ответ: потому и говорится, что тварь должна познаваться как тварь. Это значит, что всякая тварь должна рассматриваться как тварность и созданность, а не должна рассматривать себя - ибо это делает познание ее невозможным - как некое "Я", или как самость. "Ибо где должно быть познано в какой-нибудь твари совершенное, там тварность, созданность, "Я", самость и тому подобное, все должно быть утрачено и уничтожено" (1 глава книги Франкфуртца). Итак, душа должна посмотреть в глубь себя, там найдет она свое "Я", свою самость. Если она на этом остановится, она отрежет себя от совершенного. Если же она посмотрит на свое "Я" лишь как на временно дарованное ей и если она уничтожит его в духе, то она будет охвачена потоком вселенской жизни, потоком совершенства. "Когда тварь задается каким-нибудь благом, как то: существованием, жизнью, наукой, познанием, умением, словом - всем, что можно назвать благом, и полагает, что это и есть она, или что это ее, или принадлежит ей, или что это от нее: то всякий раз она на самом деле отвращается". У "сотворенной души человека два глаза. Один - это возможность видеть в вечности; другой - видеть во времени и в тварях". "Итак, человек должен стоять и быть совершенно свободным, без самого себя, т. е. без самости, без я, мне, меня, мой, и тому подобного, так чтобы не искать и не полагать себя ни в каких вещах, как если бы их вовсе и не было; и он должен также не мнить ничего о себе, как если бы его вовсе и не было, и кто-нибудь другой совершил все его дела" (глава 15).
И вновь надо иметь в виду, что содержание этих представлений, хотя бы и направляемое высшими идеями и ощущениями, у автора этих слов вполне обычно для верующего священника его времени. Дело здесь не в содержании представлений, а в их направлении, не в мыслях, а в духовном складе. Кто живет не в христианских догматах, как он, а в представлениях естествознания, тот найдет другие мысли в. его словах, но направление этих мыслей будет то же самое. И это направление есть то, которое приводит к преодолению самости через ту же самость. Человеку в его "Я" светит высший свет, но этот свет только тогда бросает истинный отблеск на мир его представлений, когда он знает, что это не его собственный, а всеобщий мировой свет. Поэтому нет более важного познания, чем самопознание; и в то же время нет другого познания, которое столь совершенно выводило бы за пределы самого себя. Когда "Я" правильно познает самого себя, оно уже более не "Я". На своем языке автор упомянутой книги выражает это так: "Ибо свойство Бога не знает ни "того", ни "этого", и не знает ни самости, ни "Я"; природа же и свойство твари таковы, что она ищет и хочет самой себя и своего, и "того", и "этого"; и во всем, что она делает или чего не делает, она хочет своей пользы и выгоды. Где же тварь или человек теряют свое свойство и самость, и.самих себя, и выходят из себя, там входит Бог со своим свойством, т. е. со своей самостью" (глава 24). Человек поднимается от воззрения на свое "Я", являющего ему это "Я", как его сущность, к иному воззрению, показывающему его "Я" лишь как орган, в котором существо Вселенной действует на само себя. В круге представлений нашей книги это выражено так: "Если человек может прийти к тому, что он так же принадлежит Богу, как рука человека принадлежит человеку, тогда пусть он удовольствуется этим и не ищет ничего более" (глава 54). Это не означает, что человек должен остановиться на известной точке своего развития; но когда он уже достиг указанной в этих словах степени, он не должен начинать новых исследований о назначении руки, а должен, напротив, пользоваться рукой, чтобы она могла служить телу, которому принадлежит.
Генрих Сузо (#15) и Иоанн Рэчсбрук (#16) обладали духовным складом, который можно характеризовать как гениальность души. Их чувства как бы инстинктивно притягиваются туда же, куда чувства Экхарта и Таулера были приведены возвышенной жизнью представлений. Сердце Сузо пламенно устремляется к первосуществу, которое объемлет отдельного человека, как и весь прочий мир, и в котором он хочет раствориться в забвении себя, как капля воды в великом океане. Он говорит о своем томлении по существу Вселенной не как о чем-то, что он хочет мысленно постигнуть; он говорит о нем как о природном влечении, которое опьяняет его душу жаждой уничтожить свое обособленное бытие и вновь возродиться во вселенской деятельности бесконечного существа. "Обрати очи твои к этому существу в его чистой простоте, чтобы отбросить всякое частичное существо. Принимай только существо само по себе, которое не смешано с несуществом; ибо всякое несущество отрицает всякое существо: точно так же поступает и существо само по себе, которое отрицает всякое несущество. Вещь, которой еще надлежит стать, или которая была, ее ныне нет в существенном присутствии. Нельзя познать смешанное существо или несущество иначе, как приняв во внимание всецелое существо. Ибо как только хотят понять вещь, разум встречает прежде всего сущность, и это есть во всех вещах действующая сущность. Это есть раздельная сущность той или иной твари, - ибо всякая раздельная сущность смешана с чем-нибудь иным, с возможностью что-нибудь принять. Поэтому не имеющее имени божественное существо должно в самом себе быть существом всецелым, которое присутствием своим содержит все раздельные существа". Так говорит Сузо в своем жизнеописании, написанном им совместно с его ученицей Эльзбетой Штеглин. И он тоже благочестивый священник и живет всецело в кругу христианских представлений. Он в такой степени сросся с ними всей своей жизнью, что казалось бы совершенно немыслимым, чтобы можно было сохранить его духовное направление, живя в мире совсем других духовных интересов. Однако это вполне возможно, и с его духовным направлением можно связать другое содержание представлений. Это можно ясно увидеть из того, каким образом содержание христианского учения становится для него внутренним переживанием, а его отношение к Христу - чисто и идеально духовным отношением, связующим его дух с вечной истиной. Он написал "Книжечку о вечной Премудрости". В ней "вечная Премудрость" говорит своему "служителю", то есть ему самому: "Разве ты меня не узнаешь? Или ты так низко пал, или исчезла у тебя память о скорби сердца, возлюбленное дитя мое? Ведь это я, милосердная Премудрость, широко распахнувшая бездну бездонного милосердия, неисследимую даже для всех святых, чтобы благостно принять тебя и все кающиеся сердца; это я, сладостная, вечная Премудрость, ставшая нищей и убогой, чтобы вернуть тебя к твоему достоинству; это я, претерпевшая горькую смерть, чтобы вернуть тебя к жизни. Я стою здесь, бледная, окровавленная и любящая, как стояла на высоком древе креста, между строгим судом отца моего и тобой. Это я, брат твой; смотри, это я, твой супруг! Я забыла все, что ты когда-либо сделал против меня, как если бы никогда этого и не было, только бы ты всецело обратился ко мне и никогда более не разлучался со мной". Все телесно-временное в христианском представлении о мире стало для Сузо, как мы видим, духовно-идеальным процессом внутри его души.
Некоторые главы упомянутого жизнеописания Сузо могут навести на мысль, что он допускал руководить собою не одной только деятельной силе собственного духа, но также и внешним откровениям и духоподобным видениям. Однако он совершенно ясно высказывает свое мнение об этом. К истине приходят только через разумение, а не через какое-либо откровение. "О различии между чистой истиной и сомнительными видениями в познаваемой материи я хочу также сказать тебе. Беспосредственное видение чистого Божества, вот истинная, подлинная правда, без всякого сомнения; и всякое видение тем благороднее, чем оно разумнее и безобразнее, и чем оно подобнее этому чистому видению". - Так же и Мейстер Экхарт не оставляет никакого сомнения в том, что он отвергает тот род созерцания, который хочет видеть духовное в телесно-пространственных образах, во внешнечувственно воспринимаемых явлениях. Поэтому такие духовные индивидуальности, как Сузо и Экхарт, являются противниками воззрения, нашедшего свое выражение в развившемся в XIX веке спиритизме.
Бельгийский мистик Иоанн Рэйсбрук шел теми же путями, что и Сузо. Его духовный путь вызвал резкие нападки со стороны Иоанна Герсона (род. в 1363) (#17), бывшего долгое время ректором парижского университета и игравшего значительную роль на Констанцском соборе. Можно пролить некоторый сает на сущность той мистики, которая нашла своих ревнителей в Таулере, Сузо и Рэйсбруке, если сравнить их с мистическим устремлением Герсона, имевшего своих предшественников в Ришаре Сен-Викторском (#18), Бонавентуре (#19) и др.. Сам Рэйсбрук боролся против тех, кого он причислял к еретическим мистикам. Еретиками для него были все те, кто, в силу поверхностного рассудочного суждения, считал вещи за истечение единого первосущества, т. е. кто видел в мире лишь многообразие, а в Боге - единство этого многообразия. Рэйсбрук не причислял себя к ним, ибо он знал, что не рассмотрением самих вещей приходят к первосуществу, но лишь поднимаясь от этого низшего способа рассмотрения к высшему. Равным образом восставал он против тех, кто в единичном человеке, в его обособленном бытии (в его тварности) хотел видеть попросту и высшую его природу. Немало сожалел он также о заблуждении, которое стирает в чувственном мире все различия и с легким сердцем говорит, что вещи различны лишь по видимости, по существу же они все одинаковы. Для того образа мышления, какой был у Рэйсбрука, это то же самое, что сказать: нам нет никакого дела до того, что деревья аллеи вдали сближаются для наших глаз; в действительности они везде на одинаковом расстоянии друг от друга; поэтому наши глаза должны приучаться видеть правильно. Но наши глаза видят правильно. То обстоятельство, что деревья сближаются, Покоится на необходимом законе природы; и мы ничего не можем возразить против нашего зрения, но мы должны в духе познать, почему мы видим именно так. И мистик не отвращается от чувственных вещей. Он принимает их как чувственные, за то, что они суть. И ему ясно также, что никакое суждение рассудка не может сделать их иными. Но в духе он выходит за пределы внешних чувств и рассудка, и только тогда находит он единство. У него непоколебимая вера, что он может развиться до видения этого единства. Поэтому он приписывает человеческой природе божественную искру, которая может быть доведена в нем до сияния, до самовоссияния. Иначе думают умы типа Герсона. Они не верят в это самовоссияние. То, что может видеть человек, для них всегда остается внешним, которое должно приходить к ним откуда-нибудь извне. Рэйсбрук верил, что для мистического созерцания должна воссиять высочайшая мудрость; Герсон верил лишь тому, что душа может проливать свет на внешнее содержание учения (на учение церкви). Для Герсона мистика состояла лишь в том, чтобы с теплым чувством относиться ко всему, что дано в этом учении через откровение. Для Рэйсбрука она была верой, что все содержание учения может быть также и рождено в душе. Поэтому Герсон порицает Рэйсбрука за то, что тот не только воображает себе, будто он обладает способностью ясно созерцать существо Вселенной, но еще и само это созерцание считает выражением деятельности существа Вселенной. Герсон никак не мог понять Рэйсбрука. Они говорили о двух совершенно-различных вещах. Рэйсбрук имеет в виду душевную жизнь, которая вживается в своего Бога; Герсон - лишь такую душевную жизнь, которая стремится любить Бога, но никогда не может изживать Его в самой себе. Подобно многим другим, Герсон боролся с тем, что ему было чуждо, только потому, что он не мог постичь этого на опыте* (* См. Дополнение II, ##2.)
КАРДИНАЛ НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ
Великолепной звездой на небе средневековой духовной жизни сияет Николай Крипфс из Кузы (близ Трира, 1400-1461) (#20). Он достиг самых вершин знания своей эпохи. Он - автор выдающихся работ по математике. В естествознании его можно назвать предтечей Коперника (#21), так как он стал на точку зрения, что Земля - подвижная планета, подобная другим. Он уже порвал с воззрением, на которое опирался еще сто лет спустя великий астроном Тихо де Браге (#22), возражавший на учение Коперника: "Земля - грубая, тяжелая и неспособная к движению масса; как может Коперник делать из нее звезду и водить ее по воздуху?". Впитывая знание своего времени и расширяя его, Николай Кузанский в высшей степени был наделен способностью пробуждать это знание и к внутренней жизни, так что оно не только объясняло внешний мир, но и сообщало человеку ту духовную жизнь, по которой он должен томиться из глубочайших основ своей души. Если сравнить Николая с такими духовными индивидуальностями, как Экхарт и Таулер, то напрашивается очень важный вывод: Николай - мыслитель-ученый, который хочет от исследования вещей мира подняться на ступень более высокого созерцания; Экхарт и Таулер - верующие люди, ищущие высшей жизни, исходя из содержания веры. В конце концов, Николай приходит к той же внутренней жизни, что и Мейстер Экхарт; но внутренняя жизнь его имеет содержанием своим богатое знание. Все значение этого различия становится ясным, если принять во внимание, что человеку, вращающемуся в кругу различных наук, грозит опасность неправильно оценить значение того способа познания, который применяется для объяснения явлений в частных науках. Такой человек легко может склониться к вере, что существует только один род познания. И тогда он или переоценит, или недооценит это познание, ведущее к цели в области отдельных наук. В одном случае он и к предметам высшей духовной жизни подойдет так же, как к какой-нибудь физической задаче, и станет обсуждать их при помощи тех же понятий, что и силу тяготения или электричества. В зависимости от той степени просвещения, которую он себе приписывает, мир станет для него или слепо действующей машиной, или организмом, или целесообразным строением личного Бога, или, может быть, созданием, управляемым и проникнутым какой-нибудь более или менее ясно сознаваемой "мировой душой". В другом случае он заметит, что это познание, единственное, о котором он имеет опыт, годится только для вещей чувственного мира; тогда он станет скептиком, который говорит себе: мы ничего не можем знать о вещах, лежащих за пределом чувственного мира. Наше знание имеет границу. Чтобы удовлетворить потребности нашей высшей жизни, мы можем лишь броситься в объятия не затронутой знанием веры. Для ученого теолога, как Николай Кузанский, который был в то же время естествоиспытателем, особенно велика была вторая опасность. По своему научному воспитанию он вышел из схоластики - из того образа представлений, который был господствующим в научной жизни средневековой церкви и который достиг своего наивысшего расцвета благодаря Фоме Аквинскому, "князю схоластов" (1225 - 1274). Если мы хотим обрисовать личность Николая Кузанского, то должны сделать это на фоне схоластического образа представлений.
Схоластика является плодом высочайшей изощренности человеческого ума. Способность к логическим построениям справляет в ней свой наивысший триумф. Кто хочет выработать свои понятия в самых острых, самых отчетливых контурах, тому надо пойти учиться к схоластикам. У них можно пройти высшую школу мыслительной техники. Они обладают несравненным искусством движения в сфере чистой мысли. Легко недооценить то, на что они способны в этой области. Ибо для большинства отраслей знания люди с трудом достигают подобной отчетливости.
Большинство людей поднимается до нее лишь в области искусства счета и вычисления или при размышлении над связью геометрических фигур. Мы можем считать, не прибегая к помощи чувственных представлений, просто прибавляя мысленно к какому-нибудь числу единицу. Вычисляем мы также без чувственных представлений, оставаясь . лишь в чистой стихии мышления. И относительно геометрических фигур мы тоже знаем, что они не покрываются вполне никаким чувственным представлением. В действительности для внешних чувств не существует никакого (идеального) круга. И тем не менее наше мышление занимается чисто идеальным кругом. Для вещей и процессов более сложных, чем числовые и пространственные построения, труднее найти идеальные соответствия. Это повело даже к распространенному утверждению, будто в отдельных областях знания лишь постольку существует настоящая наука, поскольку в них можно мерить и числить. Это очевидным образом неверно, как неверна всякая односторонность, но, как это часто удается именно односторонности, подкупила она многих. Истина кроется в том, что большинство людей не в состоянии постигать чисто мысленное там, где речь не идет больше об измеримом и числимом. Но кто неспособен на это в высшей области жизни и знания, тот подобен в этом отношении ребенку, еще не научившемуся считать иначе, как прибавляя горошину к горошине. Мыслитель, сказавший, что каждая область знания лишь постольку причастна настоящей науке, поскольку в ней есть математика, не вполне разглядел истинное положение вещей. Наоборот, нужно требовать, чтобы все, чего нельзя мерить и числить, обсуждалось столь же идеально, как числовые и пространственные построения; и этому требованию схоластики удовлетворяли совершеннейшим образом. Они везде искали мысленное содержание вещей, как ищет его математик в области числимого и измеримого.
Несмотря на совершенство своего логического искусства, схоластики дошли лишь до одностороннего и невысокого понятия о познании. Это понятие состоит в том, что человек при познании порождает в себе образ познаваемого. Ясно без дальних слов, что при таком понятии о познании всякая действительность должна быть помещена вне познавания. Ибо тогда в познании может быть постигнута не сама вещь, но лишь образ вещи. Точно тан же и в своем самопознании человек не может постигнуть самого себя; то, что он познает о себе, есть лишь образ его Я. Совершенно в духе схоластики говорит хороший знаток ее Вернер в своей книге "Франциск Суарец и схоластика последних столетий": "Человек не может во времени созерцать свое Я, эту скрытую основу своего духовного существа и своей духовной жизни, он никогда не достигнет того, чтобы созерцать себя; ибо или, навсегда отчужденный от Бога, он будет находить в себе лишь бездонную темную бездну, бесконечную Пустоту, или, одаренный блаженством в Боге, обращая взор внутрь, он будет находить только Бога, солнце благодати которого сияет в нем и образ которого отпечатлевается в духовных чертах его существа". Человек, который так мыслит о всяком познании, имеет понятие лишь о том познании, которое применимо к внешним вещам. Чувственное в каждой вещи остается для нас всегда внешним. Поэтому от чувственного в мире мы можем принимать в наше познание только образы. Когда мы воспринимаем краску или камень, мы не можем сами сделаться краской или камнем, чтобы познать существо краски или камня. Равным образом и краска или камень не могут превратиться в какую-нибудь часть нашего собственного существа! Но спрашивается: является ли понятие такого познания, направленного на внешнее в вещах, вполне исчерпывающим? - Для схоластики, во всяком случае, все человеческое познание в существенном совпадает сгтаким Познанием. Другой выдающийся знаток схоластики (Отто Вильман, в своей "Истории идеализма") следующим образом характеризует типичное для этого направления мысли понятие познания: "Наш дух, в земной жизни соединенный с телом, прежде всего направлен на окружающий телесный мир, но обращен в этом мире к духовному: к сущностям, к природе и к формам вещей, то есть к элементам бытия, которые сродны с ним и дают ему ростки для восхождения к сверхчувственному; таким образом, сферой нашего познания является область опыта, но мы должны научиться понимать то, что он предлагает нам, должны проникнуть до его смысла и мысли и тем самым раскрыть себе мир мысли". К иному понятию познания схоластик прийти не мог. В этом препятствовало ему догматическое содержание его теологии. Если бы он устремил взор своего духовного ока на то, что он рассматривает исключительно как образ, то он увидел бы, что в этом мнимом образе раскрывается духовное содержание самих вещей; тогда он нашел бы, что Бог не только отображается в его внутреннем существе, но что он живет в нем, сущностно присутствует в нем. Вглядываясь внутрь себя, он увидел бы не темную бездну и не бесконечную пустоту, а также и не один только образ Божий; он почувствовал бы, что в нем бьется жизнь, которая есть сама божественная жизнь; и что его собственная жизнь и есть именно жизнь Бога. Этого схоластик не мог допустить. По его мнению, Бог не мог вступить в него и говорить из него; он мог быть в нем только, как образ; на самом деле Божество должно находиться вне Я. Поэтому оно не могло открываться во внутреннем существе человека, через духовную жизнь, а должно было открываться извне, сверхъестественно сообщаясь, ему. Но то, к чему при этом стремятся, меньше всего достигается этим путем. Хотят достигнуть как можно более высокого понятия о Божестве. На самом же деле Божество принижается до вещи среди других вещей; с .той только разницей, что эти другие вещи открываются нам естественным путем, через опыт, тогда как Божество принуждено открываться нам сверхъестественно. Различие же между познанием божественного и познанием тварного достигается тем, что при познании тварного внешняя вещь дается нам в опыте и мы имеем о ней знание; при познании же божественного предмет не дан нам в опыте; мы можем достигнуть его только в вере. Таким образом, самые высокие вещи являются для схоластика предметами не знания, а одной только "веры. Правда, отношение знания к вере, по понятию схоластиков, нельзя представлять себе так, что в какой-нибудь области господствует только знание, а в другой только вера. Ибо. "познание сущего возможно для нас, потому что сущее само происходит из творческого познания; вещи существуют идя духа, потому что они исходят из духа; им есть что сказать нам, потому что они имеют смысл, вложенный в них верховным Разумом" (О. Вильман, "История идеализма"). Так как Бог сотворил мир сообразно мысли, то, постигая мысль мира; мы можем постигнуть путем научного размышления также и следы божественного в мире. Но что такое Бог по своей сущности, это мы можем постигнуть только через откровение, которое он дал нам сверхъестественным образом и в которое мы должны верить. Что можем мы знать о высочайших вещах, это решает не человеческая наука, но вера; и "к вере относится все, что содержится в писаниях Нового и Ветхого Завета и в божественных преданиях" (Иосиф Клейтген, "Теология древности"). - Здесь не место входить в подробное изложение и обоснование отношения содержания веры к содержанию знания. В действительности всякое содержание веры происходит из когда-либо пережитого, внутреннего человеческого опыта. Затем уже оно сохраняется, по своему внешнему составу, без сознания о том, как оно было приобретено. О нем утверждают, что оно пришло в мир путем сверхъестественного откровения. Схоластики принимали содержание христианской веры просто, как традицию. Ни наука, ни внутреннее переживание не смели предъявлять на него никаких прав. Подобно, тому, как наука не может создать дерева, так и схоластика не могла создать понятия Бога; она должна была принимать сообщенное в откровении понятие Бога как данное, подобно тому как наука принимает как данное дерево. Что духовное может само загореться и ожить внутри человека, этого схоластик не мог допустить никогда. Поэтому он ставил предел полномочиям науки там, где кончается область внешнего опыта. Человеческому познанию не было дано порождать из себя понятия высших существ. Оно хотело получать его через откровение. Что тем самым оно всего лишь принимало понятие, порожденное на более ранней ступени человеческой духовной жизни и объявляло его полученным через откровение, - с таким ходом мыслей схоластики не могли смириться. - Поэтому из схоластиг ки, в ходе ее развития, исчезли все идеи, еще намекавшие на то, как человек естественным путем породил понятие божественного. В первые века развития христианства, во времена отцов церкви, мы видим, как через принятие внутренних переживаний постепенно возникает содержание богословского учения. Иоанн Скот Эригена (#23), живший в девятом веке и получивший наивысшее христианское богословское образование, относится к этому учению еще всецело как к внутреннему переживанию. У схоластиков последующих столетий совершенно утрачивается этот характер внутреннего переживания; старая система учения перетолковывается как содержание внешнего сверхъестественного откровения. - Поэтому деятельность мистических богословов Экхарта, Таулера, Сузо и их последователей можно понимать еще и так, что система церковного учения, входившая, хотя и в перетолкованном виде, в состав богословия, побудила их вновь породить из самих себя подобное же учение, но уже как внутреннее переживание.
Николай Кузанский вступает на путь, который от знания, приобретаемого в отдельных науках, должен был возвести его к внутренним переживаниям. Превосходная логическая техника, выработанная схоластиками и в которой он был воспитан, несомненно, сама дает средство, чтобы прийти к внутренним переживаниям, хотя самих схоластиков и удерживала от этого пути положительная вера. Но чтобы вполне понять Николая, надо принять во внимание, что его положение священника, приведшее его к сану кардинала, не позволяло ему окончательно порывать с церковной верой, которая находила тогда в схоластическом богословии свое наиболее отвечавшее эпохе выражение. Мы находим его столь далеко зашедшим на этом пути, что каждый дальнейший шаг неизбежно увел бы его из церкви. Поэтому мы лучше всего поймем кардинала, если сделаем еще и этот шаг, которого он не сделал, и.уже оттуда осветим то, чего он хотел достигнуть.
Самым важным понятием в духовной жизни Николая является понятие "ученого незнания". Под этим он понимает познание, представляющее более высокую ступень, чем обыкновенное знание. Знание, в подчиненном смысле, есть постижение какого-нибудь предмета духом. Важнейший признак знания в том, что оно освещает нам что-то, находящееся вне духа, т. е. оно взирает на что-то, что не есть оно само. Таким образом, в знании дух занят вещами, мыслимыми вне его. Но то, что дух вырабатывает в себе относительно вещей, это и есть сущность вещей. Вещи суть дух. Человек видит дух сначала лишь через чувственную оболочку. Вне духа остается только эта чувственная оболочка; сущность же вещей входит в дух. Взирая тогда на эту сущность, которая одной с ним природы, дух уже не может более говорить о знании; ибо он взирает не на вещь, которая вне его, но на вещь, которая есть часть его самого; он взирает на самого себя. Он уже больше не знает; он только взирает на самого себя. Он имеет дело не с "знанием", а с "не-знанием". Он уже не занят больше пониманием чего-либо посредством духа; он "созерцает помимо понимания" свою собственную жизнь. Эта высшая ступень познания по отношению к низшим ступеням является "не-знанием". - Но ясно, что сущность вещей может сообщаться только через эту ступень познания. Таким образом, Николай Кузанский под своим "ученым не-знанием" разумеет не что иное, как возрожденное знание, ставшее внутренним переживанием. Он сам рассказывает, как он пришел к этому внутреннему переживанию. "Я делал много попыток связать в одну основную идею мысли о Боге и мире, о Христе и церкви, но ни одна из них не удовлетворяла меня, пока наконец, при возвращении морем из Греции, взор моего духа, как бы по какому-то озарению свыше, не вознесся к созерцанию, в котором Бог явился мне как высочайшее единство всех противоположностей". В какой-то мере это просветление было результатом влияния предшественников, которых он тщательно изучал. В его представлениях можно различить своеобразное обновление воззрений, встречающихся в сочинениях некого Дионисия. Упомянутый уже Скот Эригена перевел эти сочинения на латинский язык. Он называет автора "великим и божественным сообщителем откровений". Сочинения, о которых идет речь, упоминаются впервые в первой половине шестого столетия. Их приписывали упоминаемому в Деяниях апостолов Дионисию Ареопагиту (#24), которого обратил в христианство Павел. В какое время они на самом деле были написаны, этот вопрос мы оставим в стороне. Их содержание оказало сильное влияние на Николая, как оно оказало его раньше и на Иоанна Скота Эригену, и как оно во многих отношениях должно было повлиять и на образ мыслей Экхарта и его единомышленников. "Ученое незнание" в некотором роде намечается и в этих сочинениях. Здесь достаточно будет отметить лишь основную черту в образе представлений их автора. Человек познает прежде всего вещи чувственного мира. Он составляет себе мысли об их бытии и действии. Первооснова всех вещей должна быть выше, чем сами эти вещи. Поэтому эту первооснову человек ле может постигать посредством тех же понятий и идей, какими он постигает вещи. И если он приписывает этой первооснове (Богу) какие-нибудь свойства, с которыми он познакомился на низших вещах, то эти свойства могут быть лишь вспомогательными представлениями для слафго духа, который низводит до себя эту первооснову, чтобы мочь представить себе ее. В действительности никакое свойство, принадлежащее низшим вещам, мы не вправе приписывать Богу. Мы не вправе даже говорить, что Бог есть. Ибо "бытие" есть представление, которое человек составил себе на низших вещах. Бог же превыше "бытия" и "небытия". Таким образом, Бог, которого мы наделяем свойствами, не есть истинный Бог. К истинному Богу мы приходим тогда, когда над Богом с такими свойствами мы мыслим "сверх-Бога". Об этом "сверх-Боге" мы ничего не можем знать в обыкновенном смысле слова. Чтобы прийти к нему, "знание" должно впасть в "не-знание". - В основе этого воззрения лежит, как мы видим, сознание, что человек может сам - чисто естественным путем - из того, что дали ему науки, развить высшее познание, которое не есть уже больше одно только знание. Схоластическое воззрение объявляло знание неспособным на такое развитие, и там, где должно прекратиться знание, оно призывало на помощь знанию веру, опирающуюся на внешнее откровение. Таким образом, Николай Кузанский был на пути к тому, чтобы вновь развить из знания то, о чем схоластики утверждали, что оно недостижимо для познания. Итак, с точки зрения Николая Кузанского, нельзя говорить, что существует только один род познания; напротив, познание ясно делится на два: на то, которое доставляет знание о внешних вещах, и на то, которое есть сам предмет, о котором мы приобретаем познание. Первое познание господствует в науках, которые мы создаем о вещах и процессах мира; второе находится в нас, когда мы живем в самом этом приобретенном знании. Второй род познания развивается из первого. Однако мир, к которому относятся оба рода познания, один и тот же; и один и тот же человек действует в них обоих. Неизбежно возникает вопрос: откуда происходит, что один и тот же человек об одном и том же мире развивает двоякое познание? - Намек на направление, в котором надо искать ответа на этот вопрос, можно найти уже у Таулера (ср. выше, стр. 370). Но у Николая Кузанского этот ответ принимает более решительную форму. Человек живет поначалу как единичная (индивидуальная) сущность среди других единичных сущностей. Для воздействий, которые оказывают друг на друга остальные сущности, он обладает пока лишь этой (низшей) способностью познавания. Через свои внешние чувства он получает впечатления от других сущностей, и он перерабатывает эти впечатления посредством своих духовных сил. Он отводит свой духовный взор от внешних вещей и видит самого себя, свою собственную деятельность. Отсюда у него рождается самопознание. Пока он остается на этой ступени самопознания, он еще не созерцает, в истинном смысле слова, самого себя. Он все еще может думать, что в нем действует какая-то скрытая сущность, проявлениями и действиями которой является все то, что представляется ему как собственная его деятельность. Но затем может наступить момент, когда благодаря неопровержимому внутреннему опыту человеку становится ясно, что в своих внутренних восприятиях он переживает не проявление и не действие какой-то скрытой силы или сущности, но самое эту сущность в ее собственном, подлинном образе. Он вправе тогда сказать себе: все другие вещи я застаю, некоторым образом, как данные, и, находясь вне их, я добавляю к ним то, что имеет сказать о них дух. Но в том, что я сам творю в себе в добавление к вещам, в этом живу я сам; это - я, это - мое собственное существо. Но что же говорит здесь на основе моего духа? Говорит то знание, которое я приобрел себе о вещах мира. Но в этом знании говорит уже не чье-либо действие или проявление: то, что говорит в нем, раскрывает без остатка все, что оно в себе содержит. В этом знании говорит мир во всей его непосредственности. Но это знание я приобрел не только о вещах, но и о себе самом, как о вещи среди других вещей. Из моего собственного существа говорю я сам и говорят вещи. Так что в действительности я выражаю уже не одно только мое существо, но и существо вещей. Мое "я" есть та форма, тот орган, в котором вещи высказываются о самих себе. Я узнал на опыте, что я переживаю в себе мое собственное существо; и этот опыт разрастается для меня в другой: что во мне и через меня высказывается или, другими словами, познает себя само существо Вселенной. Теперь я уже не могу больше чувствовать себя вещью среди других вещей: отныне я могу чувствовать себя формой, в которой изживает себя существо Вселенной. Поэтому вполне естественно, что один и тот же человек имеет два рода познания. По отношению к чувственным фактам он - вещь среди вещей; и поскольку он - вещь, он приобретает знание об этих вещах; но в любое мгновение он может достичь более высокого опыта: что он есть форма, в которой созерцает себя существо Вселенной. Тогда он сам, из вещи среди вещей, превращается в форму существа Вселенной, - а вместе с ним и знание о вещах превращается в выражение сущности вещей. Но это превращение может совершиться фактически только через самого человека. То, что даруется благодаря высшему познанию, не может наступить до тех пор, пока нет налицо самого этого высшего познания. Только в творчестве этого высшего познания человек становится сущностным; и только через высшее человеческое познание вещи доводят сущность свою до действительного бытия. Таким образом, требование, чтобы человек ничего не прибавлял к .чувственным вещам через свое высшее познание, а лишь высказывал то, что уже заключено в них вне его, означало бы не что иное, как отказ от всякого высшего познания. - Из того факта, что человек по своей чувственной жизни есть вещь среди вещей и что высшего познания он достигает лишь превращением себя, как чувственного существа, в существо высшее, следует, что он никогда не может заменить одно познание другим. Напротив, его духовная жизнь состоит в непрерывном движении между обоими полюсами познания, между знанием и созерцанием. Замыкаясь от созерцания, он отказывается от сущности вещей; а замыкаясь от чувственного познания, он отстраняет от себя вещи, сущность которых он хочет познать. Одни и те же вещи открываются как низшему познанию, так и высшему созерцанию; но только в первом случае они открываются по своему внешнему проявлению, а во втором - по своей внутренней сущности. Таким образом, если на известной ступени вещи являются только как внешние, то это зависит вовсе не от них самих, а от того, что человек должен сначала измениться и подняться до той ступени, на которой вещи перестают быть внешними.
Только исходя из этих размышлений, можно понять в истинном свете естественно-научные воззрения, выработанные в XIX веке. Представители этих воззрений говорят: мы слышим, видим и осязаем вещи телесного мира при помощи внешних чувств. Например, глаз доставляет нам световое явление, цвет. Мы говорим, что тело излучает красный свет, если при помощи нашего глаза мы получаем ощущение "красного". Но глаз доставляет нам такое же ощущение и в других случаях. Если его ударить, или надавить, или если пропустить через голову электрический ток" то в глазу тоже появится световое рщущение. Таким образом, мы можем ощутить тело окрашенным в известный цвет даже и тогда, когда в этом теле происходит что-нибудь такое, что не имеет никакого отношения к цвету. Что бы ни происходило во внешнем пространстве, но если этот процесс способен произвести впечатление на глаз, то во мне возникает световое ощущение. Следовательно, то, что мы ощущаем, возникает у нас потому, что мы имеем так или иначе устроенные органы чувств. То, что происходит во внешнем пространстве, остается вне нас: мы знаем лишь действия, вызываемые в нас внешними процессами. Герман Гелъмголъц (1821 - 1893) дал этой мысли отчетливое выражение: "Наши ощущения суть действия, производимые в наших органах внешними причинами; в чем эти действия выражаются, это зависит, конечно, существенным образом от природы того аппарата, на который совершается воздействие. Поскольку качество нашего ощущения оповещает нас о своеобразии внешнего воздействия, которым оно возбуждено, его можно считать знаком этого воздействия, но не отображением его. Ибо от образа требуется некоторое сходство с отображаемым предметом, от статуи - сходство форм, от рисунка - сходство перспективных проекций в поле зрения, от картины - кроме того, еще и сходство красок. Но для знака не требуется никакого сходства с предметом, для которого он является знаком. Отношение между ними ограничивается тем, что один и тот же объект, воздействуя при одинаковых обстоятельствах, вызывает одинаковый знак, и что, следовательно, несходные знаки всегда отвечают несходным воздействиям... Если какие-нибудь ягоды вырабатывают при созревании одновременно сахар и красный пигмент, то в нашем ощущении от этого рода ягод всегда будут вместе присутствовать красный цвет и сладкий вкус" (ср. Гельмгольц, "Факты в восприятии"). Я подробно характеризовал этот способ представлений в моей "Философии свободы" и в моих "Загадках философии". - Попробуйте шаг за шагом проследить ход мыслей, усвоенный себе этим воззрением. Во внешнем пространстве предполагается процесс. Он оказывает воздействие на мои органы чувств; моя нервная система проводит полученное впечатление в мой мозг. Тамбова вызывается процесс. И вот я ощущаю "красное". Тогда говорят: следовательно, ощущение "красного" не снаружи; оно во мне. Все наши ощущения суть лишь знаки внешних процессов, о действительных качествах которых мы ничего не знаем. Мы живем и действуем в наших ощущениях и ничего не знаем об их происхождении. Согласно этому образу мыслей, можно также сказать: если бы у нас не было глаз, то не было бы и цвета; ничто не превращало бы тогда неизвестный нам внешний процесс в ощущение "красного". Этот ход мыслей имеет для многих что-то обольстительное. Однако он основан лишь на полном непонимании тех фактов, о которых мы при этом мыслим. (Если бы множество современных естествоиспытателей и философов не были ослеплены подобным ходом мыслей, вряд ли стоило бы о нем говорить. Но на самом деле это ослепление во многих отношениях губительно действует на мыслительную атмосферу современности). Так как человек есть вещь среди вещей, то вещи, естественно, должны производить на него впечатление, чтобы он мог что-нибудь узнать о них. Процесс вне человека должен возбуждать процесс в человеке, чтобы в поле зрения могло выступить явление "красного". Но только спрашивается: что же вне, и что внутри? Вовне - протекающий в пространстве и времени процесс. Внутри - несомненно, подобный же процесс. Он протекает в глазу и продолжается затем в мозгу, когда я воспринимаю "красное". Процесса, который внутри, я не могу воспринимать непосредственно; как не могу воспринимать непосредственно и движения волн "вовне", которое физики считают соответствующим "красному" цвету. Но в этом только смысле и могу я говорить о "вне" и "внутри". Только на ступени чувственного познания существует эта противоположность "вне" и "внутри". Это познание приводит меня к допущению "вовне" пространственно-временного процесса, хотя я и не воспринимаю его непосредственно. И то же самое познание приводит меня далее к допущению такого же процесса и во мне, хотя я также не могу воспринимать его непосредственно. Но ведь и в обыкновенной жизни я тоже допускаю пространственно-временные процессы, которых непосредственно не воспринимаю. Например, я слышу в соседней комнате игру на рояле, и я допускаю, что пространственное существо, человек, сидит за роялем и играет. И ход моих представлений бывает совершенно такой же, как и тогда, когда я говорю о процессах во мне и вне меня. Я предполагаю, что эти процессы имеют аналогичные свойства с теми, которые происходят в сфере моих внешних чувств, с той только разницей, что по некоторым причинам они ускользают от моего непосредственного восприятия. Если бы я вздумал отказать этим процессам во всех тех свойствах, которые являют мне мои внешние чувства в сфере пространства и времени, то я представил бы себе поистине что-то вроде того знаменитого ножа без ручки, у которого нет лезвия. Таким образом, я могу лишь сказать, что "вовне" происходят пространственно-временные процессы; и "внутри" они тоже производят пространственно-временные процессы. Оба рода процессов необходимы, чтобы в поле моего зрения могло появиться "красное". Это "красное", поскольку оно не пространственно-временно, я тщетно буду искать, безразлично - "вовне" или "внутри". Естествоиспытателям и философам, коль скоро они не могут обнаружить это "красное" "вовне", не следовало бы искать его и "внутри". Оно в таком же смысле не "внутри", как и не "вовне". Думать, что все содержание, доставляемое нам чувственным миром, есть лишь внутренний мир ощущений, и приискивать к нему что-то "внешнее" - это совершенно несуразное представление. Мы не можем говорить, что "красное", "сладкое", "горячее" и т.д. суть знаки, которые, как таковые, вызываются только в нас, и которым "вовне" соответствует что-то совсем другое. Ибо то, что действительно вызывается в нас, как действие какого-нибудь внешнего процесса, есть нечто совсем другое, чем то, что выступает в сфере наших ощущений. Если называть знаками то, что находится в нас, то можно сказать: эти знаки выступают внутри нашего организма, чтобы доставить нам восприятия, которые, как таковые, в своей непосредственности не находятся ни в нас, ни вне нас, но принадлежат к общему миру, по отношению к которому мой "внешний" и мой "внутренний мир" суть лишь части. Чтобы постичь этот,общий мир, я должен, конечно, подняться на высшую ступень познания, для которой уже более не существует этого разделения на "внутри" и на "вне". (Я очень хорошо знаю, что люди, которые ссылаются, как на Евангелие, на то, что "весь мир нашего опыта" строится из ощущений, неизвестно откуда происходящих, посмотрят свысока на эти рассуждения; подобно д-ру Эриху Адикесу (#25), который в своей книге "Кант против Геккеля" замечает с высоты своего величия: "И теперь еще люди, вроде Геккеля и тысячи ему подобных, продолжают смело философствовать об этом вкривь и вкось, не заботясь о теории познания и критическом самоуглублении".Подобные господа совершенно не подозревают, как дешевы и их теории познания. Они предполагают недостаток критического самоуглубления только - у других. Мы охотно уступаем им их "мудрость".)
У Николая Кузанского есть поразительные мысли, относящиеся как раз к рассматриваемому здесь вопросу. Его ясное разграничение низшего и высшего познания, с одной стороны, позволяет ему прийти к отчетливому пониманию того, что человек, как чувственное существо, может иметь в себе только такие процессы, которые, как действие, должны быть несходны с соответствующими им внешними процессами; а с другой стороны, оно предохраняет его от смешения внутренних процессов с фактами, которые возникают в поле нашего восприятия и которые, в своей непосредственности, не находятся ни вне, ни внутри, но стоят над этой противоположностью. - Неуклонно следовать путем, который диктовали ему эти воззрения, Николаю препятствовали его "священнические одежды". Мы видим, какое прекрасное начало положил он своим переходом от "знания" к "незнанию". Но в то же время необходимо заметить, что в сфере "незнания" он дает нам ту же самую богословскую систему, которую предлагают и схоластики. Правда, он умеет развить ее богословское содержание в глубокомысленной форме. О провидении, о Христе, о творении мира, искуплении человека" и нравственной жизни он излагает учения, выдержанные в духе догматического христианства. В согласии со своей духовной точкой зрения, он был бы вправе сказать: я доверяю человеческой природе; углубившись всесторонне в науки о вещах, она способна собственными силами превратить свое "знание" в "незнание", так чтобы высшее познание доставило ей удовлетворение. Тогда он пришел бы не к традиционным идеям о душе, бессмертии, искуплении, Боге, творении, триединстве и т.д., как это случилось, но предстал бы с мыслями, найденными им самим. Однако Николай был лично всецело проникнут представлениями христианства и был в состоянии поверить, что он пробуждает в себе собственное "незнание", между тем как на самом деле он развивал лишь полученные по традиции взгляды, в которых он сам был воспитан. - Но он стоялтакже и перед роковой бездной в человеческой духовной жизни. Он был человеком науки. Наука сначала отделяет нас от невинного согласия, в котором мы находимся с миром, пока отдаемся чисто наивной жизни. При такой жизни мы смутно чувствуем нашу связь с мировым целым. Мы такое же существо, как и другие, включенные в поток природных влияний. Но знанием мы отделяем себя от этого целого. Мы создаем в себе духовный мир. С ним мы одиноко противостоим природе. Мы стали богаче, но богатство для нас бремя, которое нам тяжело нести. Ибо оно ложится первоначально на нас одних. Теперь мы должны собственными силами найти дорогу назад, к природе. Мы должны понять, что теперь мы сами должны включить наше богатство в поток мировых процессов, подобно тому как раньше сама природа включила в него нашу бедность. Здесь подстерегают человека .все злые демоны. Его сила может легко изнемочь. Вместо того чтобы самому совершить это включение, он может ослабеть и начать искать убежища у приходящего извне откровения, которое вновь освободило бы его из его одиночества и возвратило бы в изначальное лоно бытия, в Божество, то знание, которое он ощущает как бремя. Он может подумать, подобно Николаю Кузанскому, что идет своим собственным путем, но на самом деле он будет идти лишь путем, который указан ему его духовным развитием. В сущности, есть три пути, по которым человек может идти дальше, когда он пришел туда, куда пришел Николай: один путь - положительная вера, которая вторгается к нам извне; второй путь - отчаянье] человек стоит одиноко со своим бременем и чувствует, как шатается и он сам, и все бытие с ним; третий путь - развитие глубочайших собственных сил человека. Доверие к миру - вот то, что должно вести нас по этому третьему пути. И еще - мужество следовать этому доверию, куда бы оно ни вело*. (*См. Дополнение III, ##3.)
АГРИППА НЕТТЕСГЕИМСКИЙ И ТЕОФРАСТПАРАЦЕЛЬС
В том же направлении, на которое указывает характер представлений Николая Кузанского, шли также Генрих Корнелий Агриппа из Неттесгейма (1487 - 1533) (#26) и Теофраст Парацельс (1493-1541). Они углубляются в природу и стараются исследовать ее законы всеми доступными в то время средствами и со всей возможной всесторонностью. В этом познании природы они видят в то же время истинную основу всякого высшего познания. Это высшее познание они стараются развить из самого естествознания, заставляя его вновь родиться в духе.
Агриппа Неттесгеймский провел жизнь, обильную переменами судьбы. Он происходил из знатного рода и родился в Кельне. Он рано изучил медицину и науку права и пытался разобраться в процессах природы в том духе, как это было тогда принято в некоторых кругах и сообществах, а также у отдельных исследователей, которые тщательно хранили в тайне то, чего им удавалось достигнуть в познании природы. Ради этого он неоднократно путешествовал в Париж, в Италию и Англию, а также ..посещал знаменитого аббата Тритгейма Спонгеймского (#27) в Вюрцбурге. В разное время он преподавал в научных учреждениях, а по временам поступал на службу к богатым и знатным и отдавал в их распоряжение свои политические и естественно-научные способности и познания. Если его биографы и признают эти оказанные им услуги не всегда безупречными и если они говорят, что он наживал деньги под предлогом обладания тайными искусствами и доставления через них выгод людям, то этому можно противопоставить его бесспорное, неутомимое стремление честно усвоить себе в целом все современное ему знание и углубить его в смысле высшего познания мира. У него отчет ливо выступает стремление стать в определенное отношение, с одной стороны, к естествознанию, с другой - к высшему познанию. Но стать в такое отношение к ним может только тот, кто ясно понимает, какими путями приходят к этим обоим видам познания. И если верно, что естествознание необходимо в конце концов поднять в сферу духа для того, чтобы оно могло перейти в высшее познание, то не менее верно и то, что первоначально оно должно оставаться в принадлежащей ему области, и только тогда оно может дать истинную основу для высшей ступени познания. "Дух в природе" существует только для духа. И если в этом смысле природа несомненно духовна, то с такой же несомненностью можно сказать, что в природе нет ничего непосредственно духовного, что я мог бы воспринимать моими телесными органами. Не существует такого духовного, которое могло бы являться, как духовное, моему глазу. Духа, как такового, я не должен искать в природе. Я поступаю так, когда считаю непосредственно Духовным какой-нибудь процесс внешнего мира; например, когда я приписываю растению душу, имеющую хотя бы отдаленную аналогию с человеческой душой. Я поступаю так, затем, еще .тогда, когда приписываю самому духу или душе пространственное или временное бытие; например, когда я говорю о вечной человеческой душе, что она продолжает жить во времени без тела, но все-таки наподобие тела, а не как чистый дух. Или когда я думаю, что дух умершего может являться в каких-нибудь чувственно воспринимаемых образах. Спиритизм, впадающий в эту ошибку, лишь обнаруживает этим, что он не достиг еще истинного представления о духе и хочет созерцать дух непосредственно в грубо-чувственном. Он одинаково не понимает как сущности чувственного, так и сущности духа. Он отрицает дух за обыкновенным чувственным миром, развертывающимся перед нашими глазами, чтобы признать непосредственно духом что-то редкое, поражающее и необычное. Он не понимает, что "дух, обитающий в природе" для того, кто способен видеть дух, раскрывается, например, при ударе двух упругих шаров, а не только в тех случаях, которые поражают своей редкостью и не сразу бывают понятны в своей естественной связи. Спирит же и самый дух низводит в низшую сферу. Вместо того чтобы объяснить происходящее в пространстве и воспринимаемое внешними чувствами посредством сил и существ, воспринимаемых опять-таки лишь пространственно и чувственно, он хватается за "духов", которых он приравнивает, таким образом, к чувственно воспринимаемым вещам. В основе такого рода представлений лежит отсутствие способности духовного постижения. Такие люди не в состоянии взглянуть на духовное духовным же образом; поэтому свою потребность в существовании духа они удовлетворяют просто чувственными существами. Для таких людей дух не являет духа; поэтому они и ищут его внешними чувствами. Они видят несущиеся по воздуху облака; так они хотели бы видеть и проносящихся духов.
Агриппа Неттесгеймский борется за истинное естествознание, которое хочет объяснить явления природы не духовными существами, таящимися в чувственном мире, но склонно видеть в природе только природное, и в духе - только духовное. Мы, конечно, совершенно неверно поймем Агриппу, если будем сравнивать его естествознание с естествознанием позднейших веков, располагающим совершенно другими опытами. При таком сравнении легко могло бы показаться, что он еще всецело относит к непосредственным действиям духов различные явления, основанные лишь на естественной связи или на ошибочном опыте. Подобную несправедливость допускает по отношению к нему Мориц Каррьер (#28), когда он - правда, не в злонамеренном смысле - говорит о нем: "Агриппа дает огромный список предметов, принадлежащих к солнцу, луне, планетам и неподвижным звездам и подверженных их влияниям; например, солнцу сродни: огонь, кровь, лавр, золото, хризолит; они наделяют дарами солнца: мужеством, веселым характером, светом.... Животные имеют природное чутье, которое в более высокой степени, ;чем человеческий рассудок, приближается к духу прорицания... Людей можно приворожить к любви и ненависти, к болезни и здоровью. Так завораживают воров, чтобы они чего-нибудь не украли, купцов, чтобы они не торговали, корабли и мельницы, чтобы они не двигались, молнию, чтобы она куда-нибудь не ударила. Это совершается посредством напитков, мазей, изображений, колец и всяческих чар; кровь гиен или василисков особенно годится для подобного употребления, - не напоминает ли это котел ведьм у Шекспира? Нет, не напоминает, если правильно понимать Агриппу. Само собой разумеется, что он верил в факты, в которых считалось невозможным сомневаться в его время. Но это делаем и мы в отношении всего того, что принято сегодня считать "фактами", Или, быть может, думают, что будущие века не выкинут, как старый хлам "слепого" суеверия, кое-что из того, что мы признаем за несомненные факты? Я, конечно, убежден, что в нашем знании фактов мы действительно ушли вперед. Когда был открыт "факт", что Земля кругла, все прежние догадки отошли в область "суеверия". Так обстоит дело с известными истинами астрономии, биологии и др. Учение об естественном происхождении человека - такой же шаг вперед по сравнению со всеми прежними "гипотезами творения", как и познание о шаровидности Земли - по сравнению со всеми предыдущими догадками об ее форме. Но тем не менее мне ясно, что в наших ученых естественно-научных сочинениях и трудах кроется немало "фактов", которые для грядущих веков в такой же степени перестанут казаться фактами, как для нас теперь - многое из того, что утверждают Агриппа и Парацельс. Дело не в том, что они рассматривали как "факты", а в том, в каком духе они толковали эти факты. - Конечно, во времена Агршшы защищаемая им "природная магия", искавшая в природе только природное, а духовное только в духе, встречала мало понимания; люди тяготели к "сверхъестественной магии", которая искала духовное в царстве чувственного и которую оспаривал . Агриппа. Поэтому аббат Тритгейм из Спонгейма мог дать ему совет: сообщать свои воззрения, как тайное учение, лишь немногим избранным, способным подняться до подобной идеи о природе и духе, ибо ведь и "быку дают только сено, а не сахар, как певчим птицам". Этому аббату Агриппа и был, быть может, обязан своей правильной точкой зрения. Тритгейм в своей "Стеганографии" дал нам сочинение, в котором он со скрытой иронией обсуждал тот образ представлений, который смешивал природу с духом. Он говорит в своей книге, по-видимому, исключительно о сверхъестественных явлениях. Кто прочтет ее так, как она есть, может подумать, что автор ведет речь о заклинании духов, об их полетах по воздуху и т. д. Но если выкинуть в тексте определенные слова и буквы, то оставшиеся буквы - как показал Вольфганг Эрнст Гейдель в издании 1676 года, - соединенные в слова, изображают уже чисто естественные процессы. (В одном случае, например, нужно в одной заклинательной формуле выпустить первое и последнее слова; затем из остальных зачеркнуть второе, четвертое, шестое и т. д. В оставшихся словах опять нужно зачеркнуть первую, третью, пятую и т. д. буквы. Оставшиеся буквы соединить в слова; и заклинательная формула превращается в чисто естественное сообщение.)
Как трудно было самому Агриппе освободиться от предрассудков своего времени и подняться к чистому созерцанию, об этом свидетельствует факт, что свою "Тайную Философию" (De philosophia occulta), написанную уже в 1510 году, он не выпускал в свет до 1531 года, считая ее незрелой. О том же свидетельствует и его книга "О тщете наук" (De vanitate scienciarum), в которой он с горечью говорит о научных и прочих делах своего времени. Он высказывает в ней совершенно ясно, что он лишь с трудом вырвался из обманчивых представлений людей, которые во внешйем строе вещей усматривают непосредственные духовные процессы, а во внешних фактах - пророческие указания на будущее и т. д. - Агриппа по трем последовательным ступеням восходит к высшему познанию. На первой ступени он рассматривает мир, как он дан внешним чувствам, с его веществами, его физическими, химическими и иными силами. Природу, рассматриваемую на этой ступени, он называет элементарной. На второй ступени он рассматривает мир как целое, в его естественной связи, в упорядоченности всех его вещей сообразно мере, числу, весу, гармонии и т. д. Первая ступень располагает вещи по их ближайшей1 связи. Действующие причины какого-нибудь процесса она ищет непосредственно рядом с этим процессом. На второй ступени отдельный процесс рассматривается в связи со всем мирозданием. Это приводит к мысли, что всякая вещь находится под влиянием всех остальных вещей мирового целого. Это мировое целое представляется как великая гармония, в которой все единичное является лишь ее членом. Мир, рассматриваемый с этой точки зрения, Агриппа называет астральным или небесным. Третья ступень познавания, это - та, на которой дух, через углубление в самого себя, непосредственно созерцает духовность, изначальное существо мира. На этой ступени Агриппа говорит о духовно-душевном мире.
Подобные же воззрения на мир и на отношение к нему человека мы находим и у Теофраста Парацельса (#29), но только в более совершенном виде. Поэтому лучше рассмотреть их у него.
Парацелье сам характеризует себя, подписав под своим портретом: "Никто не должен быть рабом другого, раз он может принадлежать самому себе". Вся его позиция по отношению к познанию дана в этих словах. Он хочет везде сам дойти до глубочайших основ естествознания, чтобы собственными силами подняться к высочайшим областям познания. Как врач, он не хочет, подобно своим современникам, просто принимать на веру все накопившиеся с древних времен утверждения слывших тогда авторитетами старинных исследователей, например Галена (#30) или Авиценны (#31); он хочет сам непосредственно читать в книге природы. "Врач должен пройти через изучение природы, которая есть мир и начало мира. И чему его учит природа, это он должен предписать и своей мудрости, а не искать ничего в своей мудрости, но единственно только в свете природы". Он ни перед чем не отступает, чтобы всесторонне изучить природу и ее действия. Ради этого он совершает путешествия в Швецию, Венгрию, Испанию, Португалию и на Восток. Он вправе сказать о себе: "Я гонялся за моим искусством с опасностью для жизни и не стыдился учиться ему у бродяг, палачей и цирюльников. Мое учение было испытано не хуже серебра, в нищете и заботах, борьбе и нужде". Переданное по традиции от старых авторитетов не имеет для него никакой цены, ибо он полагает, что правильных воззрений можно достигнуть только тогда, если сам переживаешь восхождение от природного Знания к высшему познанию. Это самостоятельное переживание влагает в его уста гордые слова: "Кто ищет истины, тому надо в мою монархию... За мной, а не я за вами, вы, Авиценна, Разес, Гален, Мезур! За мной, а не я за вами, вы, из Парижа, из Монпелье, из Швабии; вы, из Мейссена, из Кельна, из Вены и изо всех мест по Дунаю и по Рейну; вы, острова морские, ты" Италия, ты, Далмация, вы, Афины, ты, грек, ты, араб, ты, еврей; вы за мной, а не я за вами! Мне принадлежит монархия!" - Парацелье легко может быть понят неправильно из-за его грубой внешней оболочки, которая нередко за шуткой таит глубокую серьезность. Он сам говорит: "Природа не наделила меня изяществом, да и вырос я не на смоквах и на пшеничном хлебе, а на сыре, молоке и хлебе из отрубей; поэтому я, конечно, груб по сравнению с белоручками и с людьми тонкого обхождения, ибо они воспитаны в мягких одеждах, а мы на еловых шишках, и мы плохо понимаем друг друга. И хотя бы я и казался сам себе красавцем, у других я все же должен прослыть неотесанным. Да и как мне не казаться странным тому, кто никогда не ходил под солнцем?"
Гете (в своей статье о Винкельмане) прекрасно изобразил отношение человека к природе: "Когда здоровая природа человека действует как целое; когда он чувствует себя в мире как в великом, прекрасном, ценном и достойном целом; когда чувство гармоничного довольства доставляет ему чистый и свободный восторг: тогда Вселенная - если бы она могла ощутить себя - должна бы возликовать, как достигшая своей цели, и изумиться вершин своего собственного становления и существа*. Парацелье глубоко проникнут ощущением, выраженным в этих словах. Из этого ощущения вырастает и слагается для него загадка человека. Посмотрим, как это происходит в смысле Парацельса. Прежде всего, для человеческого понимания покрыт завесой тот путь, которым шла природа, чтобы породить свою вершину. Она поднялась на эту вершину; но эта вершина не говорит: я чувствую себя всей природой; эта вершина говорит: я чувствую себя этим отдельным человеком. То, что в действительности является делом всего мира чувствует себя отдельным, одиноким, обособленным существом. Более того, в том, именно и состоит истинное существо человека, что он принужден чувствовать себя чем-то иным, а не тем, что он в конце концов есть. И если в этом есть противоречие, то человека можно назвать живым противоречием. Человек - это мир; но на свой собственный лад. Свое согласие с миром он рассматривает как двоицу. Он то же самое, что и мир, но лишь как повторение, как отдельное существо. Это и есть та противоположность, которую Парацельс ощущает как микрокосм (человек) и макрокосм (Вселенная). Человек для него - это мир в малом. То, что позволяет человеку так рассматривать свое отношение к миру, и есть его дух. Этот дух является связанным с отдельным существом, с отдельным организмом. Организм этот, по всему существу своему, принадлежит к великому потоку Вселенной. Он член этой Вселенной и может существовать лишь в связи со всеми остальными ее членами. Но дух является результатом этого отдельного организма. Он видит себя первоначально связанным только с этим одним организмом. Он вырывает этот организм из его материнской почвы, из которой он вырос. Таким образом, для Парацельса в природной основе бытия таится глубокая связь между человеком и всей Вселенной, и эта связь закрыта благодаря существованию духа. Дух, ведущий нас к высшему познанию, когда он сообщает нам знание и дает затем этому знанию возродиться на высшей ступени, он имеет для нас, людей, первым следствием то, что закрывает от нас нашу собственную связь со Вселенной. Таким образом, природа человека разлагается для Парацельса прежде всего на три члена: на нашу чувственно-телесную природу, или наш организм, являющийся для нас природным существом среди других природных существ, совершенно таким же, как и все другие природные существа; затем на нашу заслоненную духом природу, являющуюся звеном в цепи всего мира и, следовательно, не замкнутую внутри нашего организма, но посылающую во всю Вселенную и получающую от нее силовые воздействия; и на самую высшую природу: наш дух, изживающий себя только духовным образом. Первый член человеческой природы Парацельс называет элементарным телом; второй - эфирно-небесным или астральным телом, а третий член он называет душой. Таким образом, в "астральных" явлениях Парацельс видит промежуточную ступень между чисто телесными и собственно душевными явлениями. Они становятся видимыми, когда дух, закрывающий природную основу нашего бытия, прекращает свою деятельность. Простейшее явление из этой области мы имеем перед собой в мире сновидений. Образы, окружающие нас во сне, с их игрой и с их удивительной, осмысленной связью с событиями вокруг нас и с нашими собственными внутренними состояниями, эти образы - порождения нашей природной основы, которые затмеваются более ярким светом души. Когда около моей кровати опрокидывается стул и я вижу во сне целую драму, кончающуюся выстрелом на дуэли; или когда у меня бывает сердцебиение, и мне снится пылающая печь, - то это проявления природной деятельности, полные смысла и значения, которые раскрывают мне жизнь, таящуюся между чисто органическими функциями и моими представлениями, протекающими при ясном сознании духа. Сюда примыкают все явления, принадлежащие к области гипнотизма и внушения. Не должны ли мы видеть во внушении такое воздействие человека на человека, которое указывает на связь существ в природе, затмеваемую более высокой деятельностью духа. Отсюда открывается возможность понять то, что Парацельс толкует как "астральное" тело. Это сумма природных воздействий, под влиянием которых мы находимся, или можем оказаться при особых обстоятельствах; они исходят из нас, однако без участия нашей души; и тем не менее они не подходят под понятие чисто физических явлений. Если Парацельс причисляет к этой области факты, которые являются в настоящее время сомнительными, то с точки зрения, приведенной мной выше (ср. стр. 402), это не имеет для нас никакого значения. - Исходя из такого взгляда на человеческую природу, Парацельс делит ее на Семь членов. Это те же самые члены, которые мы встречаем и в мудрости древних египтян, и у неоплатоников, и в каббале. Человек есть прежде всего физически-телесное существо и подчинен, следовательно, тем же законам, каким подчинено всякое тело. В этом отношении он есть чисто элементарное тело. Чисто телесно-физические законы слагаются в члены органического жизненного процесса. Парацельс обозначает органическую закономерность как "Archaeus", или "Spiritus vitae"; органическое поднимается до духоподобных явлений, которые, однако, еще не суть дух. Это "астральные" явления. Из "астральных" процессов возникают функции "животного духа". Человек существо мыслящее. С помощью рассудка он осмысленно связывает свои чувственные впечатления. Так оживает в нем "душа рассудочная". Он углубляется в свои собственные духовные порождения; он научается познавать дух как дух. Тем самым он поднимается на ступень "духовной души". Наконец, он узнает, что в этой духовной душе он переживает глубочайшую основу мирового бытия; духовная душа перестает быть индивидуальной, отдельной. Наступает познание, о котором говорил Экхарт, когда чувствовал, что не он сам говорит в нем, но говорит в нем первосущество. Наступает состояние, в котором мировой дух созерцает сам себя в человеке. Парацельс запечатлел чувство этого состояния в простых словах: "И вот нечто великое, о чем вам надо подумать: нет ничего на небе и на земле, чего нет и в человеке. И Бог, который на небе, он и в человеке".- Этими семью основными частями человеческой природы Парацельс хочет выразить не что иное, как факты внешнего и внутреннего переживания. И этим вовсе не отвергается, что в высшей действительности есть еще и некое единство, которое для человеческого опыта разлагается на множественность семи членов. Затем и существует высшее познание, чтобы вскрыть единство во всем, что является человеку, вследствие его телесной и духовной организации, в непосредственном переживании, как множественность. На ступени высшего познания Парацельс стремится всецело к тому, чтобы слить единое первосущество мира в живое единство :со своим духом. Но он знает, что человек лишь тогда может познать природу в ее духовности, когда вступает с природой в непосредственное общение. Человек постигает природу не тем, что населяет ее сам произвольно допущенными духовными сущностями, но тем, что принимает и ценит ее такою, какова она есть, как природу. И потому Парацельс не ищет Бога или духа в природе; но эта природа, как она предстает его глазам, для него непосредственно божественна. Разве нужно сначала приписать растению душу, наподобие человеческой души, чтобы найти в нем духовное? Поэтому Парацельс объясняет себе развитие вещей, насколько это было возможно при научных средствах его времени, безусловно, как чувственный естественный процесс. Он производит все вещи из первоматерии, из первичной влаги (Yliaster). И дальнейшим естественным процессом он считает разделение первоматерии (которую он называет также великим лимбом) на четыре стихии: воду, землю, огонь и воздух. Если он говорит, что "божественное Слово" воззвало из первоматерии множественность существ, то и это надо понимать лишь в том смысле, как понимают, например, в новейшем естествознании отношение силы к материи, "Духа" в фактическом смысле еще не существует на этой ступени. Этот "дух" есть на самом деле не основа природного процесса, а фактический результат этого процесса. Этот дух не создает природу, а сам из нее развивается. Некоторые выражения Парацельса могли бы быть истолкованы в противоположном смысле. Например, когда он говорит: "Нет ничего телесного, в чем не был бы сокрыт, и не содержался бы, и не жил дух. И не то только имеет жизнь, что движется и шевелится, как то: люди и животные, гады на земле, и птицы в небе, и рыбы в воде, но также и все телесные и существующие вещи". Но такими изречениями Парацельс хочет лишь предостеречь от поверхностного взгляда на природу, который несколькими "вбитыми, как колья", понятиями (по меткому выражению Гете) думает исчерпать сущность вещи. Он не хочет вкладывать в вещь вымышленную сущность, но хочет привести в движение все силы человека, чтобы извлечь из вещи то, что в ней фактически заложено. - Для понимания Парацельса важно не вводить себя в заблуждение его манерой выражаться в духе своего времени. Гораздо важнее узнать, что именно представляется ему, когда, при взгляде на природу, он облекает свои идеи в выражения .того времени. Он приписывает, например, человеку двоякую плоть, т. е. двоякий телесный состав. "Итак, плоть надо понимать так, что она двоякого рода, а именно, плоть, происходящая от Адама, и плоть, которая не от Адама. Плоть от Адама - грубая плоть, ибо она земная и больше ничего, как плоть, которую можно связать и взять, как дерево или камень. Другая плоть не от Адама, это тонкая плоть, и ее нельзя связать и взять, ибо она не из земли". Что такое плоть, которая от Адама? Это все то, что досталось .человеку через естественное развитие, т. е. то, что им унаследовано.
К этому присоединяется еще все то, что человек приобрел с течением времени в общении с окружающим миром. Из приведенной мысли Парацельса можно вывести современные естественно-научные представления о свойствах унаследованных и свойствах, приобретенных через приспособление. "Более тонкая плоть", делающая человека способным к его духовной деятельности, не была в человеке с самого начала. Он был "грубой плотью", каковы животные, плотью, которую "можно связать и взять, как дерево или камень". Так что в естественно-научном смысле душа тоже является приобретенным свойством "грубой плоти". Говоря о "плоти, происходящей от Адама", Парацельс имеет в виду то же самое, что и естествоиспытатель девятнадцатого века, когда он говорит о чертах, унаследованных из животного мира. Эти рассуждения, конечно, отнюдь не имеют целью стереть различие между естествоиспытателями шестнадцатого и девятнадцатого столетия. Только последнее столетие оказалось в состоянии взглянуть на живых существ вполне научно и в такой связи, что стало ясным их естественное сродство между собой и их действительное происхождение вплоть до человека. Естественные науки видят лишь естественный процесс там, где Линней (#32) в XVIII веке еще видел процесс духовный и характеризовал его словами: "Видов живых существ насчитывается столько, сколько сотворено различных форм вначале". Таким образом, между тем как у Линнея духу все еще отводится место в пространственном мире и указывается задача духовно порождать или "творить" жизненные формы, естествознание XIX века оказалось в состоянии вернуть природе то, что принадлежит природе, и духу - то, что принадлежит духу. Природе предоставляется самой объяснять свои творения; и дух может погружаться в себя там, где единственно только и можно найти его - внутри человека. - Но хотя Парацельс и мыслит в известном смысле вполне в духе своего времени, однако именно по отношению к идее развития и становления он более глубокомысленно понимает отношение человека к природе. Он видел в существе мира не что-то существующее так или иначе в замкнутой форме, а постигал божественное в становлении. Поэтому он мог приписывать человеку действительно самостоятельно творческую деятельность. Если божественное первосущество уже имеется налицо раз и навсегда, то не может быть речи об истинном творчестве человека. Тогда творит не человек, живущий во времени, но творит Бог, который от вечности. Но для Парацельса нет такого Бога от вечности. Для него есть лишь вечное совершение, и человек есть звено в этом вечном совершении. То, что создает человек, никак не существовало прежде. То, что творит человек, взятое так, как он его творит, есть изначальное творение. Если называть это божественным, то это можно сделать лишь в том самом смысле, в каком оно есть творение человека. Поэтому Парацельс может предоставить человеку такую роль в строении мира, которая делает его самого соучастником-зодчим в этом творении. Без человека божественное первосущество не есть то, что оно есть вместе с человеком. "Ибо природа не производит на свет ничего, что было бы завершено с ее стороны, но завершить это должен человек". Эту самостоятельно творческую деятельность человека в созидании природы Парацельс называет алхимией. "Это завершение есть алхимия. Следовательно, алхимик, это - булочник, когда он печет хлеб, винодел, когда он делает вино, ткач, когда он ткет сукно". Парацельс хочет быть алхимиком в своей области, как врач. "Поэтому я и намереваюсь так писать об алхимии, чтобы вы хорошо узнали и испытали ее, что она такое и как ее нужно пот нимать; чтобы не досадовали на то, что нельзя получить через нее ни золота, ни серебра. Но смотри за тем, чтобы открылись тебе арканы (целительные средства)... Третий столп медицины есть алхимия, ибо без нее нельзя приготовить лекарств, так как без искусства нельзя пользоваться природой.
Таким образом, взор Парацельса в самом строгом смысле слова обращен на природу, чтобы подслушать у нее самой, что она может сказать О своих порождениях. Он хочет исследовать химическую закономерность, чтобы действовать в своем понимании как алхимик. Он представляет себе все тела состоящими из трех основных веществ: из соли, серы и ртути. То, что он обозначает подобным образом, конечно, не совпадает с веществами, к которым прилагает эти имена позднейшая химия; точно так же и основное вещество, как понимает его Парацельс, не есть таковое в смысле позднейшей химии. В различные времена одними и теми же именами обозначаются различные вещи. То, что древние называли четырьмя стихиями: землю, воду, воздух и огонь, известно нам и сегодня. Но эти четыре стихии мы уже называем не "стихиями", а "агрегатными состояниями" и используем для них обозначения: твердого, жидкого, газообразного, эфирообразного. Например, земля была для древних не земля, а "твердое". Так можем мы снова встретить в современных понятиях и три основных вещества Парацельса, но не под теми же наименованиями. Для Парацельса два важных химических процесса, которые он применяет, суть растворение в жидкости и сгорание. Когда тело растворяется или сгорает, оно распадается на свои составные части. Часть остается, как осадок или зола, часть растворяется или сгорает. Такой остаток, по Парацельсу, имеет природу соли, растворимое (жидкое) - природу ртути, а сгораемое он называет серным:
Кто не умеет видеть дальше подобных природных процессов, того они не затронут и покажутся ему чем-то материальным и сухим; а кто хочет постигнуть дух непременно внешними Чувствами, тот населит эти процессы всевозможными душевными существами. Но кто, подобно Парацельсу, умеет рассматривать их в связи со Вселенной, раскрывающей свою тайну внутри человека, тот примет их так, как они представляются внешним чувствам: он не станет их сначала перетолковывать; ибо такими, как они предстоят нам в своей чувственной действительности, эти природные процессы открывают нам по-своему загадку бытия. То, что они могут раскрыть через эту чувственную действительность из самой души человека, это для всякого, стремящегося к свету высшего познания, стоит выше, чем все сверхъестественные чудеса, какие человек мог бы придумать, или все, что он мог узнать путем откровения об их мнимом "духе". Нет никакого "духа природы", который мог бы выражать более возвышенные истины, чем великие произведения самой природы, когда наша душа дружески сочетается с природой и в доверчивом общении подслушивает откровения ее тайн. Такой дружбы с природой и искал Парацельс.
ВАЛЕНТИН ВЕЙГЕЛЬ И ЯКОВ БЕМЕ
Для Парацельса было важно прежде всего выработать идеи о природе, проникнутые духом высшего познания. Родственным ему мыслителем является Валентин Вейгель (1533-1588) (#33), применивший подобные же представления преимущественно к собственной природе человека. Он вырос из протестантской теологии в таком же смысле, как Экхарт, Таулер и Сузо из католической. У него есть предшественники в лице Себастьяна Франка (#34) и Каспара Швенкфельдта (#35). В противоположность церковной вере, державшейся внешнего учения, они призывали к углублению внутренней жизни. Им дорог не Иисус, которого проповедует Евангелие, а Христос, который может быть рожден в каждом человеке, как его более глубокая природа, и который должен стать для него искупителем от низшей жизни и вождем к идеальному восхождению.
Вейгель скромно и незаметно отправлял свою пасторскую должность в Чопау. Только из оставшихся после него сочинений, напечатанных в XVII веке, стало кое-что известно о весьма значительных идеях, возникших у него о природе человека. (Из его сочинений назовем: "Золотой Ключ, или Как познать всякую вещь без ошибки, многим высркоученым неведомое и однако всем людям необходимое знание". - "Познай самого себя". - "О месте мира".) Это вынудило Вейгеля уяснить себе свое отношение к учению церкви, что в свою очередь, приводит его к исследованию основных устоев всякого познания. Может ли человек познать что-либо через вероучение? В этом он сможет отдать себе отчет только тогда, когда узнает, как он познает. Вейгель исходит из самого низшего рода познания. Он спрашивает себя: как познаю я чувственную вещь, когда она выступает мне навстречу. Отсюда он надеется подняться до такой точки зрения, на которой он сможет отдать себе отчет в наивысшем познании. - При чувственном познании противостоят друг другу орудие (орган чувства) и вещь, "предмет". "Так как в естественном познании должны быть две вещи, как то: объект или предмет, который должен быть познан и увиден глазом, и глаз или познающий, который видит объект или познает - то вот и сопоставь: от объекта ли в глаз исходит познание, или же суждение или познание исходит из глаза в объект". ("Золотой Ключ", гл. 9.) Тут Вейгель говорит себе: если бы познание исходило из предмета (из вещи) в глаз, то от одной и той же вещи необходимо должно было бы идти одинаковое и совершенное познание во все глаза. Но это не так, а каждый видит сообразно своим глазам. Только глаза, а не предмет, могут быть причиной того, что от одной и той же вещи можно получить множество различных представлений. Для пояснения Вейгел" сравнивает зрение с чтением. Если бы не было книги, я конечно, не мог бы читать ее; но она может, пожалуй, и быть, и все же я ничего не смогу прочесть в ней, если не умею читать. Итак, книга должна быть; но сама по себе она не может дать мне решительно ничего; все, что я читаю, я должен извлечь нз себя. Такова же и сущность природного (чувственного) познания. Цвет присутствует, как "предмет"; но он ничего не может дать глазу сам по себе. Глаз должен из самого себя познать, что такое цвет. Как содержание книги не находится в читателе, так не находится и цвет в глазу. Будь содержание книги в читателе, ему незачем было бы и читать ее. Тем не менее при чтении это содержание исходит не из книги, а из читателя. Так и с чувственной вещью. Что такое эта чувственная вещь вовне, это не извне входит в человека, но исходит изнутри его. - Основываясь на этих мыслях, можно было бы сказать: если всякое познание исходит из человека в предмет, то познается не то, что есть в предмете, а только то, что есть в самом человеке. Подробную разработку этого хода мыслей мы находим в воззрениях Иммануила Канта (1724 - 1804). (Ошибочные стороны этого хода мыслей указаны в моей книге "Философия Свободы". Здесь я должен ограничиться упоминанием, что Валентин Вейгель с его простым, безыскусственным образом представления стоит гораздо выше Канта). - Вейгель говорит себе: если даже познание и исходит из человека, то все же в нем проявляется - но только окольным путем, через человека - сущность самого предмета. Как посредством чтения я узнаю содержание книги, а не мое собственное, так и посредством глаза я узнаю цвет предмета, а не тот, который у меня в глазу или во мне. Таким образом, Вейгель собственным путем приходит к тому же выводу, который мы уже встретили у Николая Кузанского. Так разъяснил себе Вейгель сущность чувственного познания. Он пришел к убеждению, что все, что имеют сказать нам внешние вещи, может проистекать только из нашего внутреннего мира. Человек не может оставаться пассивным и стремиться к тому, чтобы чувственная вещь просто воздействовала на него, если он хочет ее познать; он должен быть деятельным и извлечь познание из самого себя. Предмет только пробуждает это познание в духе. Человек поднимается к высшему познанию, когда дух становится сам своим объектом. На чувственном познании можно увидеть, что никакое познание не может войти в человека извне. Следовательно, и высшее познание тоже не может прийти извне, а может лишь быть пробуждено внутри человека. Поэтому не может быть и внешнего откровения, но только внутреннее пробуждение. И как внешний предмет ждет, пока к нему не подойдет человек, в "отором он может высказать свою сущность, так и человек, если он хочет стать для себя предметом, должен ждать, пока в нем не пробудится познание его сущности. Но если в чувственном познании человек должен вести себя деятельно, чтобы вынести навстречу предмету его сущность, то в высшем познании он должен оставаться пассивным, так как теперь он сам является для себя предметом. Он должен уловить в себя свою сущность. Поэтому познание духа является ему как просветление свыше. И Вейгель называет высшее познание, в противоположность чувственному, "светом благодати". Этот "свет благодати", в действительности, есть не что иное, как самопознание духа в человеке, или возрождение знания на высшей ступени созерцания. - Однако, как Николай Кузанский, на своем пути от знания к созерцанию, не дает приобретенному им знанию действительно вновь родиться на высшей ступени, но ошибочно принимает за новое рождение то церковное учение, в котором он был воспитан, так происходит это и с Вейгелем. Он приходит к истинному пути и опять теряет его в то самое мгновение, как он на него вступает. Кто хочет идти путем, на который указывает Вейгель, тот может считать его своим вождем лишь до этой его исходной точки.
Как бы взрыв ликования самой природы, изумляющейся своему собственному существу на вершине своего становления, - вот что звучит нам из произведений сапожника из Герлица Якова Беме (1575 - 1624) (#36). Перед нами человек, слова которого обладают крыльями, сотканными из блаженного ощущения, что знание сияет в нем, как высшая мудрость. Как благочестие, которое хочет быть только мудростью, и как мудрость, которая хочет жить только в благочестии, так описывает Беме свое состояние: "Когда я с Божьей помощью боролся и сражался, тогда просиял в душе моей дивный свет, который был совершенно чужд дикой природе, и только в нем познал я, что такое Бог и человек, и какое Богу дело до человека". Яков Беме уже не чувствует себя отдельной личностью, высказывающей результаты своего познания; он чувствует себя орудием великого духа Вселенной, который говорит в нем. Границы его личности не кажутся ему границами духа, который из него говорит. Этот дух существует для него повсеместно. Он знает, что "софист осудит его", когда он говорит о начале мира и об его сотворении, "так как я сам не присутствовал при нем и его не видел. Ему я отвечу, что в бытийности (Essenz) души моей и тела, когда я еще не был Я, но был бытийностью Адама, я уже присутствовал при том, и утратил славу мою в самом Адаме". Только внешними подобиями может Беме намекнуть на то, как воссиял внутри его этот свет. Однажды, еще ребенком, взобравшись на какую-то гору, Видит он там наверху, где большие красные камни как бы замыкали гору, открытый вход и, в его углублении, сосуд с золотом. Трепет охватывает его; и он уходит, не прикоснувшись к сокровищу. Позднее он находится в обучении у сапожника в Герлице. В лавку входит неизвестный человек и спрашивает пару сапог. Беме не может ему продать их в отсутствие хозяина. Незнакомец удаляется, но через некоторое время вызывает ученика и говорит ему: "Яков, ты мал, но некогда ты станешь совсем другим человеком, который повергнет мир в изумление". В более зрелые годы Яков Беме видит однажды отблеск солнца на оловянном сосуде; представившееся ему зрелище снимает для него покров с глубокой тайны. С момента этого впечатления он считает, что обладает ключом к загадочному языку природы. - Он живет как отшельник, скромно питаясь от своего ремесла, и, между прочим, как бы для собственной памяти, записывает голоса, звучащие внутри его, когда он чувствует в себе духа. Фанатическая нетерпимость духовенства отравляет ему жизнь; он хочет читать лишь то Писание, что озарено для него светом его внутренней жизни, а его преследуют и мучают те, кому доступна только буква Писания, застывшее догматическое учение.
Загадка мира живет в душе Якова Беме, как побуждающая его к познанию тревога. Он думает, что погружен своим духом в божественную гармонию; но когда он оглядывается вокруг себя, повсюду в божественных творениях он видит дисгармонию. Человеку присущ свет мудрости; и тем не менее он подвержен заблуждению. В нем живет стремление к добру, и, однако, на протяжении всего человеческого развития звучит диссонанс зла. Природа управляется великими природными законами; и, однако, нецелесообразность и дикая борьба стихий нарушают ее согласие. Как понять дисгармонию в гармоническом мировом целом? Этот вопрос мучает Якова Беме. Он занимает центральное место в мире его представлений. Он хочет достигнуть такого воззрения на мировое целое, которое обнимало бы также и дисгармоничное. Ибо как может послужить объяснением миру представление, которое оставляет необъясненной существующую дисгармонию? Дисгармония должна быть объяснена из самой гармонии, зло - из самого добра. Говоря об этих вещах, ограничимся добром и злом, в которых, в более узком смысле, выражается в человеческой жизни эта дисгармония. Ибо, в сущности, ими ограничивается и Яков Беме. Это возможно для него, так как природа и человек представляются ему одним существом. Он видит в обоих сходные законы и процессы. Нецелесообразное является для него злом в природе, подобно тому как зло - нецелесообразным в судьбе человека. Одинаковые основные силы господствуют и здесь, и там. Кто познал источник зла в человеке, тому .открыт и источник зла' в природе. - Каким же образом из одного и того же первосущества может проистекать и добро, и зло? В смысле Якова Беме, на это получается следующий ответ. Первосущество изживает свое бытие не в самом себе. Многообразие мира принимает участие в этом бытии. Человеческое тело живет своей жизнью, не как отдельный член, но как множественность членов; точно так же и первосущество. И как человеческая жизнь излита в эту множественность членов, так излито первосущество в многообразие вещей этого мира. И если верно, что человек в целом наделен жизнью, то не менее верно и то, что и каждый член наделен своею собственной жизнью. И как нет противоречия со всей гармонической жизнью человека в том, что его рука может обратиться против собственного тела и ранить его, так нет ничего невозможного в том, чтобы обращались друг против друга и вещи мира, живущие, каждая по-своему, жизнью первосущества. Так изначальная жизнь, распределяясь на различные жизни, дарует каждой жизни способность обращаться против целого. Зло вытекает не из добра, а из того, как живет добро. Подобно тому как свет может светить лишь тогда, когда он проницает мрак, так и добро может прийти к жизни, лишь пробившись сквозь свою противоположность. Из "безначальности" (Ungrund) мрака излучается свет; из "безначальности" этически безразличного рождает себя добро. И подобно тому как в тени только светлое требует указания на свой источник, тьма же ощущается как само собою разумеющееся ослабление света; так и в мире искомой во всех вещах является лишь закономерность; а зло и нецелесообразность принимаются как само собой разумеющееся. Таким образом, хотя для Якова Беме первосущество есть Вселенная, однако нельзя ничего понять в мире, если одновременно с первосуществом не иметь в виду и его противоположности. "Добро поглотило зло или сопротивное... Всякое существо имеет в себе доброе и злое, и в своем развитии, приводя себя к раздельности, оно становится сочетанием противоположных свойств, и в нем одно старается одолеть другое". И потому это совершенно в духе Якова Беме - видеть .добро и зло в каждой вещи и в каждом процессе мира; но совсем не в его духе искать первосущество попросту в смешении добра со злом. Первосущество должно было поглотить зло; но зло не составляет части первосущества. Яков Беме ищет первооснову (Ungrund) мира; но самый мир возник через первооснову из безначальности. "Внешний мир не есть Бог и вовеки не будет именоваться Богом, но лишь существом, в котором открывается Бог... Когда говорят: Бог есть все, Бог - небо и земля, а также и внешний мир, то это правда; ибо от него и в нем искони пребывает все. Но что мне делать с подобной речью, которая не есть религия?" - На основе такого воззрения слагались в духе Якова Беме его представления о существе всего мира, когда он, в известной последовательности, производил закономерный мир из безначальной бездны. Из семи природных форм возводится здание этого мира. В темной терпкости получает первосущество свой образ, безмолвно замкнутый в себе и неподвижный. Эту терпкость Беме разумеет под символом соли. Подобными обозначениями он примыкает к Парацельсу, который заимствовал у химических процессов названия для процесса природного (ср. выше, стр. 411). Через поглощение своей противоположности первая природная форма переходит во вторую; терпкое, неподвижное вступает в движение; в него входит сила и жизнь. Символ для этой второй формы - ртуть. В борьбе покоя с движением, смерти с жизнью, открывается третья природная форма (сера). Эта борющаяся в себе жизнь получает проявление; она уже не живет больше внешней борьбой своих членов; ее существо потрясается как бы целостно сверкающей молнией, озаряющей самое себя (огонь). Эта четвертая форма природы восходит к пятой, к покоящейся в самой себе живой борьбе частей (вода). На этой ступени, как и на первой, есть внутренняя терпкость и безмолвие; только это не абсолютный покой, не молчание внутренних противоположностей, а внутреннее движение противоположностей. Покоится в себе не покойное, а подвижное, возженное огневой молнией четвертой ступени. На шестой ступени само первосущество познает себя как таковую внутреннюю жизнь; оно воспринимает себя через органы чувств. Эту форму природы представляют живые существа, одаренные внешними чувствами. Яков Беме называет эту ступень "звуком", или "звоном" и тем самым использует чувственное ощущение звука как символ для чувственного восприятия. Седьмая природная форма - дух, восходящий на основе своих чувственных восприятий (мудрость). Он вновь обретает себя как самого себя, как первооснову, внутри выросшего в безначальной бездне и слагающегося из гармонии и дисгармонии мира. "Святой Дух разливает в бытии сияние величия, в котором Божество пребывает явно". С помощью таких воззрений Яков Беме пытается исследовать тот мир, который является для него фактическим, по уровню знания его времени. За факты он принимает то, что считают фактами современное ему естествознание и Библия. Одно дело - образ его представлений, и другое - мир его фактов. Можно представить себе первый примененным к совершенно иному фактическому знанию. И тогда перед нашим духом явится Яков Беме, каким он мог бы жить и на рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий. Такой Беме, с его образом представлений, проник бы не в библейское шестидневное творение и борьбу ангелов и дьяволов, а в геологическое познание Лайелля (#37) и в факты "Естественной истории творения" Геккеля. Кто проникнет в дух сочинений Якова Беме, тот должен прийти к этому убеждению. (Назовем важнейшие из этих сочинений: "Утренняя заря в восхождении"; - "Три начала божественной сущности"; - "О тройной жизни человека"; - "Обращенное око"; - "Signatura rerum, или О рождении и знаменовании всех существ"; - "Mysteium Magnum".)* (* Это предложение не следует понимать так, будто в настоящее время исследование Библии и духовного мира является заблуждением, здесь имеется в виду, что пути, сходные с теми, которые в XVI столетии приводили к Библии, "Якова Беме XIX столетия" привели бы к "естественной истории творения". Но это и послужило бы для него отправной точкой для проникновения в духовный мир.)
ДЖОРДАНО БРУНО И АНГЕЛ СИЛЕЗСКИЙ
В первом десятилетии XVI века в замке Гейльсберг в Пруссии естественно-научный гений Николая Коперника (1473-1543) (#38) создает мысленное построение, принуждающее людей последующих эпох взирать на звездное небо с иными представлениями, чем их предки в древности и в средние века. Для последних Земля была местом их обитания, покоящимся в центре Вселенной. Небесные же светила были для них существами совершенной природы, движение которых протекало по кругам, ибо круг - образ совершенства. В том, что являли звезды внешним человеческим чувствам, усматривалось непосредственно нечто душевное или духовное. Одним языком говорили с человеком вещи и процессы на Земле; и совсем иным - сияющие небесные светила, являющиеся в чистом эфире надлунной сферы, как наполняющие пространство духовные существа. Уже Николай Кузанский составил себе другие понятия. Благодаря Копернику Земля стала для людей таким же существом, как и другие небесные тела, небесным светилом, обладающим таким же движением, как и они. Все отличие ее для человека можно было усмотреть теперь лишь в том, что она - место его обитания. Человек был принужден перестать мыслить о процессах этой Земли иначе, чем о процессах в остальном мировом пространстве. Его чувственный мир расширяется до отдаленнейших пространств. То, что проникало в его глаз из эфира, он должен был признать теперь таким же чувственным миром, как и земные вещи. В эфире он уже не мог больше искать духа чувственным образом.
С этим расширенным чувственным миром должен был отныне считаться тот, кто стремился к высшему познанию. В прежние века мыслящий дух человека стоял перед миром иных фактов. Теперь ему была поставлена новая задача. Теперь уже не одни только вещи этой Земли могли высказывать свою сущность из внутренней глубины человека. Эта внутренняя глубина должна была отныне охватить дух всего чувственного мира, одинаково повсюду наполняющего пространства Вселенной. - Перед такой задачей стоял мыслитель Филотео Джордано Бруно из Нолы (1548-1600) (#39). Внешние чувства завоевали пространственную Вселенную: отныне дух нельзя больше искать в пространстве. Так извне было указано человеку искать отныне дух только там, где искали его, из глубины внутренних переживаний, выдающиеся мыслители, ряд которых прошел перед нами в предыдущих главах. Эти мыслители почерпали из самих себя миросозерцание, к которому впоследствии принудило людей ушедшее вперед естествознание. Солнце идей, которому в будущем надлежало осветить новое воззрение на природу, находится для них еще за горизонтом; но свет его уже загорается утренней зарей, в то время как мысли людей о природе еще покоятся сами в ночной тьме. - Шестнадцатое столетие в области естествознания передало небесное пространство чувственному миру, которому оно принадлежит по праву; к концу девятнадцатого столетия эта наука продвинулась настолько, что и в явлениях растительной, животной и человеческой жизни она смогла отдать миру чувственных фактов то, что ему принадлежало. Ни вверху в эфире, ни в развитии живых существ это естествознание не может теперь искать ничего иного, кроме фактических чувственных процессов. Подобно тому как в XVI веке мыслитель должен был сказать: Земля - звезда среди прочих звезд, подчиненная тем же законам, что и другие звезды, - так и мыслитель XIX века должен сказать: "Каково бы ни было происхождение человека и его будущность, для антропологии он просто млекопитающее животное, но только наделенное наиболее сложными потребностями, болезнями и организацией, и с мозгом, одаренным удивительной работоспособностью и достигшим высочайшего развития" (П. Топинар, Антропология, Лейпциг, 1888). - С такой точки зрения, достигнутой естествознанием, не может больше произойти смешения между духовным и чувственным, если человек правильно понимает самого себя. Развившееся естествознание делает невозможным искать в природе дух, мыслимый по образу материи, подобно тому как здоровое мышление делает невозможным искать причину движения часовых стрелок не в механических законах (в духе неорганической природы), а в особом демоне, производящем движение этих стрелок. С полным правом должен был Эрнст Геккель, как естествоиспытатель, отвергнуть грубое, составленное по образу материи представление о Боге. "В высших и более абстрактных формах религий телесное явление отвергается и Бог почитается лишь как "чистый" дух., лишенный тела. "Бог есть Дух, и кто поклоняется ему, должен поклоняться ему в Духе и Истине". Но несмотря на это, душевная деятельность этого чистого духа остается совершенно такой же, как и деятельность антропоморфного личного Бога. В действительности этот нематериальный дух мыслится не бесплотным, а только незримым, газообразным. Так приходим мы к парадоксальному представлению Бога как газообразного позвоночного животного" (Геккель, Мировые загадки). В действительности чувственно-фактическое существование духовного может быть принято лишь там, где непосредственный чувственный опыт являет духовное; и мы вправе предполагать духовное лишь в той степени, в какой оно воспринимается подобным образом. Выдающийся мыслитель Б. Карнери был вправе сказать (в книге "Ощущение и сознание"): "Положение: нет духа без материи, но также и нет материи без духа, - давало бы нам право распространить эту проблему и на растение, мало того, на первую попавшуюся скалу, у которой вряд ли многое могло бы говорить в пользу этих коррелятивных понятий". Духовные процессы, как факты, суть результаты различных отправлений организма; дух мира существует в мире не материальным, но именно лишь духовным образом. Душа человека есть сумма процессов, в которых дух наиболее непосредственным образом является как факт. Но в форме таковой души дух существует только в человеке. И это значит неверно понимать дух, это значит впадать в самый тяжкий грех против духа, когда ищут дух в душевной форме где-либо помимо человека, когда мыслят других существ одушевленными наподобие человека. Поступающий так показывает только, что он в себе не пережил самого духа; он пережил лишь действующую в нем внешнюю форму проявления духа - душу. Но это то же самое, как если бы кто принял нарисованный карандашом круг за действительно математически идеальный круг. Кто не пережил в себе ничего иного, кроме одной только душевной формы духа, тот чувствует себя вынужденным - чтобы не оставаться при грубо-чувственной материальности - предположить подобную душевную форму также и в нечеловеческих вещах. Вместо того чтобы мыслить первооснову мира как дух, он мыслит ее как мировую душу и допускает всеобщую одушевленность природы.
Джордано Бруно, до которого дошло новое воззрение Коперника на природу, не мог понимать дух в мире, изгнанный из него в устаревшей форме, иначе, как мировую душу. Если углубиться в сочинения Бруно (особенно в его глубокомысленную книгу: "О причине, о начале и об едином"), то получается впечатление, что он мыслил вещи одушевленными, хотя и в различной степени. Он не пережил в себе духа в действительности и потому мыслит его наподобие человеческой души, в которой единственно дух выступал перед ним. Говоря о духе, он понимает его таким образом: "Универсальный разум есть самая внутренняя, самая деятельная и наиболее ей свойственная способность и потенциальная часть мировой души; он есть нечто тождественное, которое наполняет все, и озаряет Вселенную, и учит природу производить роды ее существ, какими они должны быть". Правда, в этих словах дух изображается не как "газообразное позвоночное животное", однако все же как существо, подобное человеческой душе. "Как бы мала и ничтожна ни была вещь, в ней есть часть духовной субстанции, которая, найдя подходящий тому субстрат, тянется стать растением или животным, и организуется в любое тело, которое обыкновенно называется одушевленным. Ибо дух находится во всех вещах, и нет ни одной самой маленькой частицы, которая не принимала бы в себе такого участия, чтобы оживить себя в нем". Джордано Бруно не пережил в себе дух действительно как дух и потому мог смешивать жизнь духа с внешними механическими приемами, при помощи которых Раймунд Луллий (1235-1315) (#40) в своем так называемом "Великом искусстве" хотел снять покров с тайн духа. Современный философ Франц Брентано (#41) описывает это "Великое искусство" таким образом: "На концентрических, отдельно вращающихся кружках были написаны понятия, из которых затем, путем вращения, получались самые различные комбинации". На основании случайного сближения понятий при вращении слагалось потом суждение о высших истинах. И Джордано Бруно, во время своих странствований по Европе, выступал в различных высших школах учителем этого "Великого искусства". Он обладал смелостью и мужеством мыслить небесные светила как миры, совершенно аналогичные нашей Земле; он расширил взгляд естественно-научного мышления за пределы Земли; он уже не мыслил больше мировых тел как телесных духов; однако все еще продолжал мыслить их как душевных духов. Не будем несправедливы к человеку, которого католическая церковь заставила искупить смертью его опередивший эпоху образ представлений. Хотя Бруно и мыслил еще чувственное душевным, все-таки нужно было невероятно многое для того, чтобы все небесное пространство включить в то же миросозерцание, которое обнимало до тех пор лишь земные вещи.
* * *
Иоганн Шефлер, носивший имя Ангела Силезского (1624 - 1677) (#42), был личностью, которая в семнадцатом веке дала еще раз, в великой душевной гармонии, просиять тому, что подготовили Таулер, Вейгель, Яков Беме и другие. Идеи этого мыслителя как бы собраны в духовный фокус и излучают сосредоточенный свет в его книге "Херувимский странник. Обильные духом изречения в стихах". И все, что говорит Ангел Силезский, является столь непосредственным и естественным раскрытием его личности, как если бы этот человек был призван, по особой воле провидения, стать воплощенной мудростью. Непосредственность, с которой переживается им мудрость, сказывается в той - изумительной также и в художественном отношении - форме кратких изречений, в которую он ее облекает. Он парит, как духовное существо, над всем земным бытием; и то, что он говорит, подобно веянию из иного мира и уже заранее свободно от всего грубого и нечистого, из чего обычно лишь с таким трудом высвобождается человеческая мудрость. - В смысле Ангела Силезского воистину познающим является лишь тот, кто пробуждает в себе к видению око Вселенной; в истинном свете видит свою деятельность только тот, кто чувствует, что эта деятельность направляется в нем рукою Вселенной: "Бог есть во мне огонь, а я - сиянье в нем: не слиты ль оба мы всецело с ним в одно?" - "Богат и я, как Бог; нет в мире ничего, в чем (человек, поверь) я б не был с ним одно", - "Бог любит больше нас, чем Самого Себя; и если мной любим Он больше, чем я сам, то я даю Ему не меньше, чем Он мне". - "Для птицы воздух дом, а камню дом земля; в воде жилище рыб; покой для духа - Бог". - "Коль ты рожден из Бога, то Бог цветет в тебе; и божество Его - краса твоя и сок". "Постой, куда бежишь; небо в тебе самом: коль Бога мнишь не там, то не найдешь нигде". - Для того, кто чувствует себя так во Вселенной, прекращается всякое разделение между ним и другими существами; он не ощущает себя больше отдельным индивидуумом; напротив, все, что ни есть в нем, он ощущает как звенья мира, а собственное существо свое - как самое Вселенную. "Мир, он не держит нас; ты сам себе тот мир, что крепко в плен забрал тебя в тебе тобой". - "Дотоле человек блажен не будет весь, пока иного в нем не поглотит одно". - "Все вещи в человеке; коль нет в тебе чего, то ты не знаешь сам, насколько ты богат". - Как существо чувственное, человек есть вещь среди других вещей; и органы его внешних чувств доставляют ему, как чувственной индивидуальности, чувственные вести о вещах в пространстве и времени вне его; но когда в человеке говорит дух, тогда нет ни внешнего, ни внутреннего; духовное не здесь и не там; не прежде и не после: пространство и время исчезают в созерцании духа Вселенной. Только до тех пор, пока человек взирает как индивидуум, он бывает здесь, а вещь - там; и только до тех пор, пока он взирает как индивидуум, существует одно прежде, а другое - после. "Когда возносишь дух выше времен и мест, то вечность в каждый миг бывает твой удел". - "Я вечность буду сам, когда покину время и в Бога заключусь, в себя вобравши Бога", - "Та роза, что сейчас ты внешним видишь оком, от вечности она так в Господе цвела". - "Стань в то же посреди, и все увидишь враз: что было и что есть, что здесь и в небесах". - "Пока в уме хранишь ты плен времен и мест, дотоле не поймешь, что вечность есть и Бог". - "Когда избавишь дух от множества вещей и к Богу вознесешь, найдешь единство в нем". Тем самым человек достигает высоты, на которой он выходит за пределы своего индивидуального Я, и преодолевает всякую противоположность между миром и собой. Для него начинается высшая жизнь. Охватывающее его внутреннее переживание является ему как смерть старой жизни и воскресение в новой. - "Поднявшись над собой, в себе дай править Богу: тогда узнает дух твой вознесенье в небо". - "Возвысить в духе плоть, а дух ты должен - в Боге, когда ты вечно в Нем блаженно хочешь жить". - "Чем больше мое Я во мне изнемогает, тем крепче и сильней во мне Господне Я". С такой точки зрения познает человек свое значение и значение всех вещей в царстве вечной необходимости. Природное "все" является ему непосредственно, как божественный дух. Мысль о таком божественном духе Вселенной, который еще может иметь бытие и пребывание над вещами мира или наряду с ними, исчезает, как превзойденное представление. Этот дух Вселенной является в такой степени излившимся в вещи и столь сущностно соединившимся с ними, что его нельзя было бы больше даже и мыслить, если отнять от существа его хотя бы одно какое-нибудь звено. "Есть только Я и Ты; не будь обоих нас, Бог был бы уж не Бог и рухнуло бы небо". - Человек чувствует себя необходимым звеном в мировой цепи. Его деятельность не имеет в себе больше ничего произвольного и ничего индивидуального. Все, что он делает, необходимо в целом, в мировой цепи, которая распалась бы, если бы из нее выпала эта его деятельность. "Не может без меня Бог ничего создать: не поддержу и я с ним - тотчас рухнет все". - "Я знаю: без меня не может жить и Бог; коль превращусь в ничто, испустит дух и Он". - На этой высоте человек впервые видит вещи в их истинной сущности. Ему не нужно больше извне наделять духовностью ничтожные и грубо-чувственные вещи. Ибо таким, как оно есть, это ничтожное, при всей своей ничтожности и грубой чувственности, является звеном во Вселенной. - "Пылинки малой нет, соломинки такой, чтоб Бога в них мудрец в величьи не узрел". - "В зерне горчичном скрыт, коль хочешь ты узнать, весь образ всех вещей, тех, что вверху и долу". - На этой высоте человек чувствует себя свободным. Ибо принуждение существует лишь там, где что-нибудь еще может принуждать извне. Но когда все внешнее влилось во внутреннее, когда исчезла противоположность между "Я и миром", между "вне и внутри", "природой и духом"; тогда человек чувствует все, что его побуждает, только как свое собственное побуждение. - "Закуй меня, как хочешь, хоть в тысячу цепей, и все ж на воле я, свободен от оков". - "Коль волей мертв я стал, то должен Бог творить то, чего я хочу: я сам ему указ". - Тут кончаются все извне приходящие нравственные нормы; человек становится сам себе мерой и целью. Над ним не стоит никакого закона: ибо закон стал его сущностью. - "Для злых лишь есть закон; без писаных скрижалей любить бы добрый стал и Бога и людей". - Таким образом, на высшей ступени познания человеку вновь даруется невинность природы. Он выполняет поставленные ему задачи в чувстве вечной необходимости. Он говорит себе: через эту железную необходимость дана тебе возможность освободить от вечной необходимости то звено мира, которое тебе досталось в удел. - "Учитесь, люди, вы у полевых цветов: как Богу угодить и расцветать в красе". - "Не знает роза никаких "зачем" и "почему"; не спросит: видят ли ее, цветет себе без дум". - Восставши на более высокой ступени, человек ощущает в себе, подобно полевому цветку, вечное, необходимое устремление Вселенной; он живет, как цветет полевой цветок. Чувство его нравственной ответственности возрастает при всяком его действии до неизмеримости. Ибо, упуская что-нибудь сделать, он отнимает это у Вселенной, он умерщвляет Вселенную, поскольку возможность такого умерщвления зависит от него. "Что значит: не грешить? Ответ искать не долго: тебе его дадут безмолвные цветы". "Все смерти подлежит: коль не умрешь для Бога, то для врага тебя в конце поборет смерть".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Около двух с половиной веков прошло с тех пор, как Ангел Силезский собрал в своем "Херувимском страннике" глубокую мудрость своих предшественников. Богатые результаты принесло проникновение в природу в эти столетия. Гете развернул для естествознания широкие перспективы. Он старался проследить вечные, железные законы природной деятельности до той вершины, где они с такой же необходимостью дают возникнуть человеку, с какой на более низкой ступени они производят скалу (ср. мою книгу: "Миросозерцание Гете"). Ламарк, Дарвин, Геккелъ и другие продолжали работать дальше в смысле того же образа представлений. "Вопрос всех вопросов", вопрос об естественном происхождении человека получил свой ответ в девятнадцатом столетии. Другие, примыкающие к нему задачи в области природы нашли свои разрешения. Теперь люди понимают, что незачем выходить из пределов фактического и чувственного для того, чтобы чисто естественным образом уразуметь последовательное развитие существ вплоть до человека. - Проницательный ум И. Г. Фихте осветил нам также и самую сущность человеческого Я и показал человеческой душе, где она должна искать себя и что она такое (ср.,выше, стр. 335 и главу о Фихте в моей книге "Загадки философии"). Гегель распространил царство мысли на все области бытия и пытался постигнуть мышлением закономерность внешнего чувственного бытия природы так же, как и высочайших созданий человеческого духа (ср. мое изложение Гегеля в "Загадках философии", т. I). - Как же выглядят эти умы, мысли которых мы проследили в этой книге, в свете миросозерцания, оснащенного всеми научными завоеваниями последующих затем эпох? Они еще продолжали верить в "сверхчувственную" историю творения. В каком отношении находятся их мысли к истории "естественной", созданной естествознанием XIX века? - Последнее не придало природе ничего, что ей не принадлежит; оно только отняло у нее то, что ей не принадлежало. Оно изгнало из нее все, что надо искать не в ней, но что находится только внутри самого человека. Оно не видит больше в природе существа, подобного человеческой душе и творящего по образу человека. Оно не допускает больше творения органических форм человекоподобным Богом; оно прослеживает их развитие в чувственном мире по чисто природным законам. Мейстер Экхарт и Таулер, Яков Беме и Ангел Силезский должны были бы ощутить глубочайшее удовлетворение при взгляде на это естествознание. Тот дух, в котором дни хотели рассматривать мир, в полнейшем смысле перешел в это наблюдение природы, если только верно понимать последнее. То, что было им еще недоступно: осветить раскрывшимся им светом также и факты самой природы, - это сделалось бы, несомненно, их страстным желанием, если бы в то время в их распоряжении было настоящее естествознание. Они не могли этого сделать; ибо не было никакой геологии, никакой "естественной истории творения", которая бы повествовала им о процессах в природе. Только Библия по-своему повествовала им об этих процессах. Поэтому они искали, как умели, духовное там, где только и можно его найти: во внутреннем мире человека. В наше время у них были бы еще совершенно другие, нежели тогда, средства показать, что в ощутимой форме существующий дух можно найти только в человеке. Они без возражений согласились бы теперь с теми, кто ищет дух, как факт, не в корне природы, а в ее плодах. Они признали бы, что дух в чувственном теле есть результат развития, и что такого духа нельзя искать на низших ступенях развития. Они бы поняли, что не "творческая мысль" действовала при возникновении духа в организме, как не "творческая мысль" произвела и обезьяну из сумчатых животных. - Наше время не может говорить о фактах природы так, как говорил о них Яков Беме. Однако и в наше время существует точка зрения, сближающая образ воззрений Якова Беме с таким мировоззрением, которое считается с современным естествознанием. Нет никакой нужды расставаться с духом, усматривая в природе только природное. Правда, многие теперь думают, что пришлось бы впасть в плоский и сухой материализм, если просто принять найденные естествознанием "факты". Я сам стою вполне на почве этого естествознания. Я ясно чувствую, что при таком рассмотрении природы, как у Эрнста Геккеля, только тот может опошлить его, кто уже сам подходит к нему с миром плоских мыслей. Я ощущаю нечто более высокое и более прекрасное, когда даю действовать на себя откровениям "Естественной истории творения", чем когда мне навязывают сверхъестественные чудесные истории различных вероучений. Ни в одной "священной" книге я не знаю ничего, что раскрывало бы мне такие возвышенные вещи, как тот "сухой факт", что каждый человеческий зародыш в чреве матери последовательно повторяет вкоатце все животные формы, через которые прошли его животные предки. Если мы только исполнимся в душе нашей величием фактов, доступных созерцанию наших внешних чувств, то мало места останется для "чудес", лежащих вне круговорота природы. Если мы переживаем в самих себе дух, то нам уже не нужно никакого духа во внешней природе. В моей "Философии свободы" я изложил свое миросозерцание, которое вовсе не считает, что оно изгоняет дух тем, что рассматривает природу таким же образом, как рассматривают ее Дарвин и Геккель. Растение или животное ничего не выиграют для меня, если я населю их душами, о которых мои внешние чувства не дают мне никакого свидетельства. Я не ищу во внешнем мире никакой "более глубокой", "душевной" сущности вещей, я даже вовсе не предполагаю ее, потому что я думаю, что меня спасает от этого мое познание, раскрывающееся мне в моем внутреннем мире. Я полагаю, что вещи чувственного мира и суть то самое, чем они нам представляются, потому что я вижу, что истинное самопознание ведет нас к тому, чтобы не искать в природе ничего, кроме естественных процессов. Я не ищу никакого духа Божия в природе, потому что я думаю, что слышу в самом себе сущность человеческого духа. К признанию своих животных предков я также отношусь спокойно, потому что я полагаю, что там, где берут,свое начало эти животные предки, не может действовать никакого душеподобного духа. Я могу только согласиться с Эрнстом Геккелем, когда он предпочитает "вечный покой могилы" тому бессмертию, которому учат многие религии. Ибо я нахожу унижение духа, тяжкий грех против духа в представлении о душе, продолжающей жить наподобие чувственного существа. - Я слышу резкий диссонанс, когда естественно-научные факты в изложении Геккеля сталкиваются с конфессиональной "набожностью" некоторых современников. Но в религиозных учениях, плохо согласующихся с фактами природы, не звучит для меня дух того высшего благочестия, которое я нахожу у Якова Беме и Ангела Силезского. Это высшее благочестие находится, наоборот, в полной гармонии с деятельностью природы. Нет никакого противоречия, если мы проникаемся проблемами новейшего естествознания и одновременно вступаем на путь, на котором искали дух Яков Беме и Ангел Силезский. Кто вступает на этот путь в смысле этих мыслителей, тому нечего бояться впасть в плоский материализм, знакомясь с тайнами природы в изложении какой-нибудь "естественной истории творения". Кто понимает мои мысли в этом смысле, тот поймет вместе со мной и последнее изречение "Херувимского странника", которое пусть послужит заключением и этой книги: "На этом кончим, друг; а хочешь дальше знать: тогда сам книгой стань, и сам ее чтецом".
Дополнение к новому изданию [1924]. Это последнее предложение не следует истолковывать в смысле бездуховного понимания природы. Я хотел только настоятельно подчеркнуть, что дух, лежащий в основании природы, должен быть найден в ней самой и что его нельзя привносить извне. Отказ от "идеи творения" касается творчества, подобного человеческому, - согласно идее целесообразности. Что же касается истории развития, об этом можно прочесть в моей книге "Гносеология в мировоззрении Гете" (Предисловие к новому изданию).
ДОПОЛНЕНИЯ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ [1924]
Дополнение I (##1). Страх перед обнищанием духовной жизни при восхождении к духу испытывают только те люди, кто знаком с духом только через совокупность абстрактных понятий, выведенных из чувственного созерцания. Тот, кто в духовном созерцании возвышается к жизни, которая по своему содержанию и конкретности превосходит чувственную, может не испытывать этого страха. Ибо чувственное бытие, постигаемое в одних только абстракциях, блекнет; и лишь в "духовном созерцании" является оно в своем истинном свете, ничего не теряя из своего чувственного богатства.
Дополнение II (##2). В моих работах различным образом говорится о мистике. Противоречия, которые здесь хотели бы видеть, являются кажущимися и объясняются в примечаниях к новому изданию моей книги "Теория познания мировоззрения Гете".
Дополнение III (##3). Здесь в нескольких словах намечен путь к Духо-познанию, который я описал в моих поздних книгах, в частности: "Как достигнуть познания высших миров?", "Очерк тайноведения", "О загадках души".
ПРИМЕЧАНИЯ
#1. "Мировые загадки" Геккеля: Ernst Наескеl, "Die Weltraetsel". Gemeinverstaendliche Studien ueber monistische Philosophie, Bonn, 1899.
#2. " Познай самого себя". Надпись на храме Аполлона в Дельфах, приписываемая одному из семи греческих мудрецов (среди прочих Фалесу, Хилону).
Валентин Вейгель. "Познай самого себя". См. прим. #33.
#3. "Ignorambimus", Речь Дю Буа-Раймона. Эмиль Дю Буа-Раймон (1815 - 1896), психолог. "О границах познания природы", доклад, прочитанный на собрании немецких естествоиспытателей и врачей. Лейпциг, 14 августа 1872 г.
#4. Пауль Асмус, 1842- 1876, "Я и вещь в себе. История развития понятий новейшей философии", Галле, 1873.
#5. Роберт Гамерлинг. 1830-1889, "Die Atomistik des Willens, Beitraege zur Kritik der modernen Erkenntnis", 2. Band, Hamburg, 1891.
#6. Мейстер Экхарт: О внешней жизни этого величайшего немецкого мыслителя-мистика мало что известно. Он родился в 1250 г., по-видимому, неподалеку от Готы в Саксонии; будучи доминиканцем, учился и - после присуждения ученой степени в 1302 г. - преподавал в Париже. В 1303- 1311 гг. был провинциальным приором своего ордена в Саксонии, после чего вновь отбыл в Париж и в 1312 - 1325 гг. читал проповеди в Страсбурге и, по всей видимости, во Франкфурте; с 1325 г. занимал должность лектора доминиканского ордена в Кельне,. В последний год своей жизни был обвинен в ереси архиепископом Кельна, хотя еще в 1327 г. публично опроверг подобное истолкование своих речей. Спустя два года после его смерти двадцать шесть его положений были осуждены папой.
#7. Фома Аквинский, 1225 - 1274. Сын графа Аквино. В 16 лет, вопреки родительской воле, вступил в орден Доминиканцев и стал учеником Альберта Великого, к которому ездил в Париж в 1245 г. и которого сопровождал в Кельн в 1248 г. В 1252 г. он возвращается в Париж и там вместе с Бонавентурой (см. прим. #19) получает ученую степень. В последующее время преимущественно занимается делами своего ордена в Болонье, Неаполе и др. Скончался в дороге, следуя на Лионский собор. Был прозван doctor angelius (ангелический доктор) и в 1323 г. причислен к лику святых. - См. Rudolf Steiner, "Die Philosophie des Thomas Aquino", drei Vortraege 1920, GA Bibl. 74.
#8. св. Августин: Аврелий Августин, 354 - 430 гг. Отец церкви, оказавший равно большое влияние на теологию и на философию. - См. Рудольф Штайнер, "Христианство как мистический факт и мистерии древности". Ереван, "Ной", 1991.
#9. "О том, что мы слышали, что видели своими очами..." - I Послание Иоанна, 1 и 3.
#10. "Лучше для вас, что я ухожу от вас..." (Иоан. 16. 7.)
#11. Иоанн Таулер (ок. 1300-1361), на поколение младше Мейстера Экхарта. В юности, будучи доминиканцем, учился у последнего, по-видимому, в Кельне, в 1325 г., - одновременно с Генриком Сузо. Таулер был исповедником и проповедовал главным образом в своем родном городе Страсбурге и одно время - в церковную смуту при короле Людвиге Баварском, когда Страсбург также попал под влияние папства - в Базеле. Он был связан с кругом набожных мужчин и женщин - как духовных, так и светских - в Страсбурге, Базеле, в Швабии и др., - именовавших себя "друзьями Божиими". Проводя жизнь в добровольной бедности и уединенности, они на практике руководствовались предписаниями мистики и поддерживали друг друга на пути внутреннего постижения.
#12. Генрих Сюзо: см. прим. #15.
#13. Иоанн Рейсбрук: см. прим. #16.
#14. Рулъман Мерсвин, 1307-1382, богатый страсбургский горожанин, отказавшийся от своего имущества и основавший в Страсбурге дом для братства "Grunen Worth": дом для общины "друзей Божиих", к которым принадлежал сам. Община придерживалась почти монастырского образа жизни, руководствуясь несколькими добровольно принятыми правилами, и находилась на попечении ордена иоаннитов. Там были переписаны и сохранены трактаты, перечисляемые Рудольфом Штайнером. По форме они связаны с "Другом Божиим из Оберланда".
#15. Генрих Сузо, 1295-1366. Родился в Йберлингене и уже тринадцати лет вступил в доминиканский орден в Констанце; еще ранее, умерщвляя плоть, вел строго аскетическую жизнь. Учился в Страсбурге и Кельне, где был учеником Мейстера Экхарта. Будучи лектором и приором своего ордена в Констанце, вынужден был в 1336 г. предстать перед судом за защиту Экхартовых положений, подпавших под интердикт. Изгнанный из своего ордена, прошел через Швабию, исполняя роль духовного наставника, особенно в многочисленных женских монастырях, где обрел множество учениц; в их числе была Эдебет Штеглин из монастыря Тесе под Винтертуром, которая, поначалу без его ведома, записала историю его жизни.
#16. Иоанн Рейсбрук (Ян ван Р., 1294-1381) был викарием и пресвитером в Брюсселе. В 1354 г. удалился в августинский монастырь Грюнталь (под Ватерлоо) , где и умер в должности приора. По характеру своей мистики получил прозвание "экстатического доктора" - "doctor ecstaticus"
#17. Иоанн Герсон (Жан ле Шарль де Жерсон). Один из наиболее влиятельных теологов Франции XV века, который особенно активно боролся против папской схизмы и был прозван "христианнейшим доктором" - "doctor cristianissmus". Попытался связать мистику со схоластикой в трактате "Considerationes de mysica theologia speculativa et practica" ("Рассмотрение мистической теологии - теоретической и практической").
#18. Ришар Сен-Викторский (ум. в 1173 г.), шотландец. Приор и аббат монастыря Сен-Виктор в Париже, ученик и последователь Гуго Сен-Викторского, который положил начало ученой славы этого авестийского монастыря. Викторианцы основывались скорее на церковной схоластике, чем на мистике.
#19. Бонавентура (1221 - 1274), собств. Иоанн Фиданца, францисканец, родом из Тосканы. Он учился в Париже и был удостоен ученой степени вместе с Фомой Аквинским. С 1257 г. был главным министром (minister generalis) своего ордена. В 1273 г. стал кардиналом и епископом. В качестве папского легата принимал участие в Лионском соборе, во время Которого и умер. Церковь присвоила ему имя "серафический доктор" (doctor seraphicus).
#20. Николай из Кузы (1401 -1464), сначала был доктором права в Падуе, но в 1428 г. принял духовный сан. Исполнял множество поручений папы в Базеле, Константинополе, во многих местах Германии, Франции и Нидерландов. В 1448 г. стал кардиналом и получил епископство Бриксен, управление которым, однако, привело к политическим затруднениям, в результате которых он был изгнан из своего епископата. Николай был теологом и философом, астрономом, математиком, церковным политиком.
#21. Николай Коперник: см. прим. #38.
#22. Тихо (де) Браге (1546-1601), датский астроном. - "Земля грубая, тяжелая...", ср. Tycho Brahe: "Opega omnia", hg. Von I. L. Dreyer, Mauniae 1929, S 220/21: Ответ Тихо Браге астроному Кристофу Ротманну из Касселя, 1590.
#23. Иоанн Скот Эригена (ок. 810 - 877), скорее всего, ирландец по происхождению. Был приглашен Карлом Лысым в Париж в качестве учителя философии. В 860 г. без папского разрешения опубликовал перевод трактатов Дионисия Ареопагита (см. стр. 389), что навлекло на него ненависть церкви. Ненависть эта коснулась и других его произведений: "О предопределении" и пяти книг "О начале природы", - которые были публично сожжены в 1225 г. Об Эригене и Дионисии см. Rudolf Steiner, "Perspectiven der Menschheitsentwickelung", GA Bibl. - No. 204, die Vortraege vom 2. und 3. Juni 1921.
#24. Дионисий Ариопагит: см. "Деяния апостолов" 17, 34. - Речь идет о трактатах: "О Божественных именах", "О мистической теологии", "О небесной иерархии", "О церковной иерархии".
#25. Эрих Адикес (1866-1928), философ. - "Kant contra Haeckel, Erkenntnistheorie gegen naturwissenschaftlichen Dogmatismus", Berlin 1901, S. 120.
#26. Генрих Корнелий Агриппа из Неттесгейма (1487 - 1535). В Кельне и Париже изучал медицину и юриспруденцию. Во время путешествия по Европе углубился в учения неоплатоников, еврейской каббалы и Гермеса Трисмегиста; в Вюрцбурге стал учеником аббата Тритемия; преподавал в Доле, Павии, Меце, Кельне и в Нидерландах, дважды скрывался от обвинения в ереси; самые значительные его работы "De vanitate et incertitudine scientiarum" (1531), и "De occulta philosophia sive de magia" (1531). ("О сущности и о недостоверности наук" и "О сокровенной философии или о магии".
#27. Иоганн Трипемий (Тритгейм) из Спонгейма (1462 - 1516), в 1482 г. вступил в бенедиктинский монастырь Спонгейма, до 1485 г. был его аббатом; с 1506 г. возглавил монастырь в Вюрцбурге, имел высокий авторитет благодаря обширной учености, прежде всего в области "тайных наук".
#28. Мориц Каррьер ( 1817 - 1895), философ, эстетик.
#29. Теофраст Бомбаст Парацелъс из Гогенгейма (1493 - 1541); родом из Эйнзидельна (Швейцария). Великий врач, философ и естествоиспытатель, провел жизнь в постоянных путешествиях и учебе. В числе его учителей был, по-видимому, Тритгейм Спонгеймский. Между 1526 и 1528 годами был городским врачом Базеля и ординарием университета, но из-за столкновений с магистратом и врачебной коллегией вынужден был вновь покинуть Базель. С этого времени он непрерывно кочует по Южной Германии, нередко в совершенной нищете, тогда же пишет свои великие медицинские и химические произведения. Умер в Зальцбурге. См. Johannes Hembelen, "Paracelsus, Revolutionaer, Arzt und Chris", Stuttgart, 1972.
#30. Клавдий Гален (131 - 201 н.э.), философ и врач из Пергамо, попытавшийся в своих многочисленных сочинениях суммировать достижения медицины древности. Вплоть до XVI века считался безусловным авторитетом как на Востоке, так и на Западе.
#31. Авиценна (980 - 1070), арабский врач, создавший на основе аристотелевской науки "Медицинский канон".
#32. Карл фон Линне (Линней) (1707-1778), шведский естествоиспытатель, врач, ботаник.
#33. Валентин Вейгелъ (1533-1588), родился в Гроссенхайне (под Дрезденом), учился в Лейпциге и Виттенберге. Всю свою дальнейшую жизнь был священником в Чопау. Он сознательно держал в тайне свои сочинения, доверяя их в рукописном виде лишь ближайшим друзьям, для того чтобы иметь возможность без преследований со стороны церкви исполнять обязанности священника и формировать мир своих мыслей.
#34. Себастьян Франк (1499 - 1542), родился в Донауверте, протестантский священник; с раннего возраста изучал старинных немецких мистиков и лично был знаком с К. Швенкфельдтом. Из-за преследований церкви вынужден был покинуть Нюрнберг, а позднее - Ульм и Страсбург. Он умер в Базеле после мучительной кочевой жизни.
#35. Каспар Швенкфельдт (1489 - 1561), из Силезии. Симпатизировал нововведениям Лютера, сам в 1527 г. написал послание о сущности причастия в мистическом, надконфессиональном духе, что привело к преследованиям со стороны лютеран. С того времени он жил, скрываясь; сначала в Страсбурге, затем - в Швабии и на Рейне. Умер в Ульме.
#36. Яков Беме (1575 - 1624), родился под Герлицем в крестьянской семье, был определен к сапожному ремеслу. Во время своих странствований в качестве подмастерья он, вероятно, познакомился с сочинениями Швенкфельдта и принял участие в борьбе против протестантизма и католицизма. После вел внешне спокойную, благочестивую жизнь ремесленника и семьянина в Герлице. Только в 1610 г. он описал свои озарения в книге "Утренняя заря в восхождении", вызвавшей неприятие магистрата и церкви и запрет на дальнейшее сочинительство. Семь лет Беме подчинялся этому запрету и только в последние шесть лет своей жизни изложил свои мысли в трактатах и посланиях.
#37. Чарльз Лайелл (1797 - 1875), английский геолог; "Principles of Geology". 3 Baende 1830 - 33.
#38. Николай Коперник (1473 - 1543), родом из Торна. Свои многочисленные штудии начал в Кракове и продолжал в Болонье и Падуе (они касались теологии, медицины, математики, астрономии). В Италии преимущественно изучал юриспруденцию и древние языки. С 1512 г. - настоятель собора во Фрауенбурге. Его главное сочинение "De revolutionibus orbium coelestium" ("О вращении небесных сфер") не публиковалось даже спустя некоторое время после его смерти; оно было защищено посвящением пале, но в связи с процессом над Галилеем (1616) было внесено в Индекс.
#39. Филотео Джордано Бруно (1548-1600), из Нолы под Неаполем; был членом доминиканского ордена, позже - вступил в конфликт с ним. Насколько было велико его отвращение к Аристотелю и схоластике, настолько же сильно влечение к Николаю Кузанскому, Копернику и Раймонду Луллию (см. ниже). Бежав из Неаполя, он вел жизнь бродячего философа, которая через Гент, Париж, Лондон, Виттенберг, Прагу, Франкфурт вновь привела его в Италию. В Венеции он был выдан инквизиции и в 1600 г. осужден на казнь через сожжение.
#40. Раймунд Луллий (1235 - 1315), каталонец с о. Майорка, отрекся от беспутной, полной внешнего блеска жизни и стал "воином Христовым". Свою главную задачу видел в интеллектуальном преодолении арабизма. Его многократные победы в публичных диспутах повлекли за собой преследования со стороны арабов и тюремное заключение. Умер смертью мученика. Был францисканцем и приобрел имя "doctor illuminatus" - "осиянный доктор".
#41. Франц Брентано (1838-1917), философ и психолог.
#42. Ангел Силезский (Иоанн Шефлер, 1624 - 1677), происходил из протестантской семьи в Бреславе, учился медицине в Страсбурге, Лейдене и Падуе. В 1653 г. перешел в католичество и стал придворным медиком.