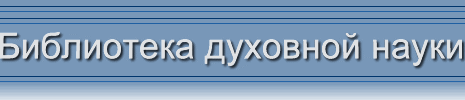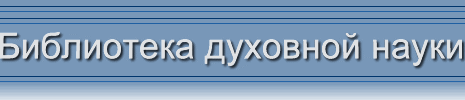Рудольф Штейнер
Философия Фомы Аквинского
GA 74
Издательство имени Владимира Соловьева
Санкт-Петербург, 2004
Редакция перевода: А.С. Конвиссер, 2004
Содержание:
Фома и Августин.
Лекция в Дорнахе 22 мая 1920 года.
Сущность томизма. Лекция в Дорнахе 23 мая 1920 года.
Значение томизма для современности. Лекция в Дорнахе 24 мая 1920 года.
Фома и Августин
Лекция в Дорнахе 22 мая 1920 года.
Сравнивая произведения Фомы Аквинского и Августина, видишь, что первые предстают бессамостным, безличным воплощением главного течения христианской философии средних веков, тогда как вторые - яркое выражение борющейся личности Августина. В лекции о Фоме Аквинском в берлинской Лиге имени Джордано Бруно в 1902 году мною была предпринята попытка показать, что томизм1 является подлинно спиритуалистическим монизмом и что он, кроме того, есть проявление самого проницательного, острого и тонкого мышления, какое только возможно, и о каком, в сущности, не имеет никакого даже предчувствия новейшая философия, сложившаяся под влиянием Канта и протестантизма. Эта лекция вызвала негодование среди членов Лиги, культивировавших и признававших под названием монизма вообще лишь монизм материалистический.
Перед душой Августина стояло два главных вопроса и притом с такой интенсивностью, о какой в наше время, когда коренные вопросы познания и душевной жизни совсем поблекли для людей, не имеют никакого представления. Что есть истина? - это было первым вопросом, за разрешение которого вел внутреннюю борьбу Августин: что можно признать истиной, поддерживающей и наполняющей человеческую душу? Второй же вопрос состоял в следующем: как можно объяснить наличие в мире зла, если смысл этого мира хоть как-то связан с добром? Как объяснить наличие в человеческой натуре того жала зла, которое (по крайней мере, по суждению Августина) никогда не замолкает - даже тогда, когда человек исполнен искреннего и честного стремления к добру?
В возрасте 20 лет Августин порвал со свойственным ему прежде легкомысленным образом жизни, обратившись в манихейство. Это последнее ведет свое происхождение от перса Мани, и в V веке оно уже стало целым мировоззренческим направлением, широко распространившимся в северной Африке. Манихейству свойственно прежде всего полное отрицание двусоставности мира: различия духовной и материальной его сторон.
Слова или идеи "дух" и "материя" не имеют для него никакого смысла. Во всем том, что является внешним чувствам как материальный мир, манихейство усматривает лишь духовное, и когда оно говорит о духовном, то отнюдь не поднимается над тем, что открывается внешним чувствам. В небесных созвездиях и в их движениях манихейцы видели духовные свершения и говорили об астрономических явлениях как о моральных свершениях, происходящих в ходе человеческого развития. В движениях Солнца через пояс зодиакальных созвездий они лицезрели, как благодаря двенадцати высоким духовным Существам модифицируется деятельность Первосущества света.
Согласно манихейскому учению, человеческое существо, жившее и еще живущее на Земле, является, собственно, лишь жалким остатком того, чем должен был стать человек на Земле благодаря божественному Первосуществу света. То же, что теперь ведет свое существование на Земле как человек, возникло следующим образом. Некогда Первосущество света, с целью усилить свою борьбу против демонов тьмы, создало изначальное человеческое существо. Но это последнее потерпело поражение в борьбе с демонами тьмы и было спасено благими Властями, которые перенесли его на Солнце, иначе говоря, перенесли его в свое царство Света. Однако демонам все же удалось урвать частицу этого прачеловека и образовать из нее то, что и существует ныне на Земле как человеческий род. И для того, чтобы вернуть этих поврежденных земных людей к их первоначальному назначению, на Земле совершилось явление Существа Христа, благодаря деянию Которого Земля должна быть избавлена от демонического.
Августин затем решительно отошел от манихейства. Привлекавшие его сначала образы манихейского учения, отождествлявшие материальное с духовным и духовное с материальным, перестали в дальнейшем удовлетворять его. Это произошло потому, что по своему душевному складу Августин был гораздо более подобен человеку средневековья и даже человеку нового времени, чем какой бы то ни было представитель манихейства. Авгус-тин был уже носителем того, что можно назвать обновлением душевной жизни по сравнению с переживаниями людей древнего мира. Для этого нужно было совершить некий скачок в ходе развития человечества, которое, ведь, вовсе не является непрерывно-прямолинейным. То, что лежало перед этим историческим скачком, было манихейством; а то, что было достигнуто после этого скачка, это и есть та душевная установка, к которой пришел Августин после своего разрыва с манихейством. Августин поднялся к гораздо большей свободе в отношении к действительности внешних чувств, чем какой-либо манихеец, видевший повсюду материально-духовное. Августин, в отличие от манихейства, пробился к созерцанию чисто духовного -чего-то умозрительного, создаваемого и созерцаемого лишь в духе. Августин ищет того душевного содержания, что не связано с действительностью внешних чувств. И в этом он рвет с греческой философией.
Когда грек говорит об идеях, о понятиях, когда о них говорит, например, Платон, то он говорит об идеях как о чем-то таком, что он воспринимает во внешнем мире подобно тому, как он воспринимает краски и звуки. И он не проводит того различия между мыслями и восприятиями внешних чувств, которое делают нынешние люди. Не понимают того великого гения, но вместе с тем и крайнего филистера, который завершает формирование греческой философии, - Аристотеля, если не понимают, что он, говоря о понятиях, стоит на самой границе, с одной стороны, постижения их уже как абстракций, извлеченных, высвобожденных из действительности внешних чувств, а с другой стороны, - примыкая к греческой традиции, -получения понятий из окружающего мира, подобно восприятиям внешних чувств.
Так что манихейство было, можно сказать, христианским вариантом, христианским преобразованием этой греческой философии - с приданием ей восточного нюанса.
Августин же принадлежал к ряду тех людей своей исторической эпохи, которые просто в силу принадлежности к ней пробились к иному, новому постижению понятий, идей. Правда, среди этих людей Августин выделялся как особенно выдающаяся личность, и его переживания идей были переживаниями мыслей, извлеченных, высвобожденных из действительности внешних чувств (мы не будем здесь касаться вопроса, были ли эти его мысли абстракциями или же реальностями для его души). И нет ничего удивительного в том, что эти души в своем сильном, но неясном устремлении к тому, чего еще не существовало, но что еще только возникало, блуждали, разочаровывались, впадали в скептицизм.
Однако, у Августина ощущение того, что он в своем устремлении находится на надежной почве истины, было настолько сильным, а с другой стороны, вопрос о происхождении зла так терзал его, что он должен был искать путеводный свет в последнем ответвлении развития греческой филосоуровнем обыкновенного человека того времени; представление о ней не могут дать ни диалоги Платона, ни совсем уже философия Аристотеля. Плотин был последним отпрыском того рода людей, что проложили совсем иной путь познания, чем тот, который стал доступен и привычен представителям средневековой схоластики, а затем и нынешним людям. В глазах как тех, так и других Плотин является фантазером, ужасным мечтателем, более того - опасным мечтателем. И зачастую о нем не могут слышать и говорить без ругани.
В настоящее время наше познание мира осуществляется следующим образом: мы получаем восприятия внешних чувств; затем, будучи более или менее интеллектуально развиты, мы как бы извлекаем из них понятия путем абстрагирования. Таким образом, мы сначала направляем наше внимание на опыт внешних чувств, а завершаем процесс суммой познания идей, то есть того, что мы как бы извлекли из вещей мира.
Не так мыслил Плотин. Для него, в сущности, весь этот мир восприятий внешних чувств вообще, так сказать, едва ли существовал. То же, что для него было действительным, о чем он говорит так, как мы говорим о растениях, минералах, животных и физических людях, - это он лицезрел пребывающим над понятиями. Это был некий духовный мир, нижней границей которого были понятия.
Нынешние люди добывают понятия таким образом, что обращаются к вещам мира внешних чувств, образуют путем абстрагирования понятия и говорят: понятия суть обобщения, своего рода экстракт, извлеченный из восприятий внешних чувств и обладающий природой идей. Плотин же, которого мало заботил мир восприятий внешних чувств, говорил: "Мы, как люди, живем в некоем духовном мире, и то, что являет нам этот духовный мир как свое последнее и что мы видим как его нижнюю границу, - это понятия". Для нас ниже понятий лежит мир внешних чувств. Для Плотина же над понятиями лежит некий духовный мир, собственно мир Разума, мир непосредственного Царства Духа. Плотин полагал, что он продолжатель истинных воззрений Платона; для Плотина мир, лежащий над понятиями, был тем, что Платон называл миром идей. Согласно Плотину, этот мир идей или Божественного Разума создает душу; эта душа, в свою очередь, создает материю, в которой она воплощается.
Стало быть, то, из чего душа берет себе тело, есть, в существенном, творение самой этой души.
Процесс образования индивидуальности ведет свое происхождение от того, что душа, которая прежде была причастна единству мира идей, дробится, воплощаясь в теле А, в теле Б, в теле В и так далее. Таким образом впервые возникают отдельные души.
Это можно сравнить с большой единой массой жидкости, которая потом была разлита во многие сосуды. С точки зрения Плотина, человека, с его внешней стороны, можно рассматривать прежде всего как "сосуд". Но это по существу - лишь то, благодаря чему душа проявляет себя, благодаря чему она индивидуализируется. Когда же человек саму свою душу переживает внутренне, он возносится в мир идей. Это - высший род переживания.
Для Плотина не имело никакого смысла говорить о понятиях так, как о них говорят нынешние люди. Ибо для него речь могла идти только о проникновении духовного мира в человеческие души, о переживании его в форме понятий.
Человек может путем углубления так продвинуть свою душу вперед в ее развитии, что достигнет неизмеримо более высоких переживаний, неведомых обыкновенному человеку. Он может достигнуть переживания того, что пребывает еще выше мира идей и что может быть названо переживанием Единого. Это - мир действительных сверхчувственных переживаний (в смысле современной духовной науки).
Для Плотина весь мир есть духовное; вещи мира внешних чувств для него не существуют. Ибо то, что является нам как материальное, есть, по Плотину, всего лишь разновидность проявления духовного мира и притом - самая низшая разновидность его проявления. Всё в мире - Дух, и если только мы проникаем достаточно глубоко в вещи, все открывается нам как Дух.
Для Августина же это было чем-то таким, из чего он никак не мог исходить. Почему же, собственно? Потому что он не имел уже сверхчувственных восприятий. Если Плотина можно назвать последним отпрыском тех древних времен, когда люди обладали такими восприятиями, и Плотину удалось внести их в третье христианское столетие, то Августин, напротив, был, можно сказать, передовым человеком своей исторической эпохи. Он был предшественником таких людей, которые уже не могли больше чувствовать, ощущать, воспринимать то, что открывается, нисходит к ним в мире идей Платона как некий духовный мир. Августин мог узнать о нем только из рассказов других. И он мог еще только пробудить в себе чувство, что где-то возможен человеческий путь, ведущий к истине. Таким образом, некая пропасть отделяла Августина от учения Плотина. Но это не отталкивало его от последнего, и Августин всячески стремился к внутреннему постижению учения Плотина. Но тем не менее, сверхчувственное видение не открывалось Августину. Он мог только предчувствовать, что в этом духовном мире заключено нечто особенно высокое. Но сам он не мог проникнуть туда. - С таким душевным настроением Августин предался уединению, во время которого он изучил Библию, Евангелия и позднее - Послания апостола Павла, проповеди Амвросия. В результате Августин пришел к тому, что мог сказать: именно то, что Плотин искал как сущность мира в потустороннем мире идей или в Едином и к чему можно подняться лишь в особенных состояниях человеческой души, - именно оно телесно явилось на земле в человеческом облике через Христа Иисуса.
Из изучения Библии Августин вынес убеждение, что человек не нуждается в восхождении к сверхчувственному Единому; ему нужно лишь прислушаться к тому, что сообщает о Христе Иисусе историческое предание. Ибо в Его лице Единый нисшел на Землю, воплотился в человеке. Итак, Августин теперь принимает вместо философии Плотина учение христианской церкви. Об этом он сам сказал достаточно ясно: "Лишь ослепленный человек может отказать в вере Апостольской церкви. Учеников Господа знали лично многие люди, а этих последних опять-таки лично знали люди следующего поколения, и так далее и так далее через столетия. Свидетельства апостолов, их писания, а также последующие свидетельства, переданные через поколения людей, несомненно заслуживают полной веры". И вот, у Августина возникло стремление применить учение Плотина для понимания того, что открылось его чувству, его внутреннему ощущению через принятие христианства. Он стремится понять содержание христианства, прибегая к учению Плотина и преобразовывая его. Так, для Плотина Единый являлся непосредственным восприятием; для Августина же, который не мог подняться до этого сверхчувственного восприятия, Единый стал абстрактным понятием Бытия.
Мир идей Плотина превратился у Августина в абстрактное понятие знания, а свойственное Плотину представление о душе превратилось у Августина в абстрактное понятие жизни или же любви. - Отсюда явствует, какому преобразованию подверглось у Августина учение Плотина о Троице. У Плотина Троица состоит из Единого, мира идей и души, а у Августина - из Бытия, Знания и Жизни, или Любви. И у Плотина, и у Августина индивидуальные человеческие души ведут свое происхождение от Божественной Троицы. - Это учение о Троице снова ожило в сочинениях Скота (что значит "шотландец") Эригены, жившего при дворе французского короля Карла Лысого в IX в. Он написал книгу о троичном членении всей природы, из которой явствует, что христианство того времени строило свое содержание, исходя из учения Плотина.
Но вот что особенно сильно усвоил Августин из учения Плотина и что было как раз весьма существенным для этого учения: душа нисходит в материальный мир и в нем - в свое тело, как в некий сосуд; человек становится земной индивидуальностью. Если же мы вознесемся над земным миром и вступим в мир Вышний, иначе говоря, взойдем от человеческого к Духовному или Божественному, где коренится Троица, тогда там мы имеем дело уже не с отдельными людьми, а с человеческим родом в целом, с человечеством как с единым целым. С этой точки зрения все человечество концентрировалось для Плотина в фигуре Адама. Адам был всем человечеством. И когда Адам нисшел из духовного мира на землю и связал с ней свое существо, то в нем продолжало жить то, что было в духовных высях. Поэтому сам он был не способен впасть в грех, стать несвободным и смертным. Для этого потребовалось вмешательство супостата, который искусил, соблазнил человечество.
Здесь Августин полностью стоял на позиции Плотина. Для него все человечество есть нечто единое. Грешит не отдельный человек, но в лице Адама в грех впало все человечество. Эта мысль была тяжкой для Августина. Ибо в нем уже восставал человек, являвшийся предшественником современных людей, - восставал против учения Плотина, великого отпрыска древних времен. В Августине уже жил индивидуальный человек, обладавший ощущением, что отдельный человек становится всё более и более ответственным за то, что именно он делает и чему именно он учит. И временами Августину начинало представляться чем-то невозможным, что отдельный человек есть лишь член человечества как единого целого. Однако неоплатонизм был столь прочно усвоен Августином, что его мысленный взор мог быть направлен лишь на человечество в целом.
Всё человечество, полагал он, впало в состояние греха, в состояние несвободы, подвластности смерти. Тем самым оно отреклось от своего божественного происхождения. И Бог, если бы Он был всего только справедливым, должен был бы предать все человечество проклятию, вечному осуждению. Однако, Бог не только справедлив, Он также и милосерден, - так ощущал это Августин. Поэтому он решил спасти одну часть человечества. Иначе говоря, решение Бога предопределило одну часть человечества к искуплению, к приятию божьей милости. Благодаря чему эта часть человечества будет возвращена из состояния несвободы и подвластности смерти - в состояние свободного бытия и бессмертия, что, впрочем, может осуществиться только после смерти человека. Другая же часть человечества, состоящая из людей, не избранных Богом, останется в состоянии греха.
Таким образом, человечество распадается на две части: на тех, кто избран Богом и на тех, кто предан Им вечному осуждению.
Согласно Августину, в число избранных к вечному блаженству человек попадает вовсе не благодаря его личным заслугам, но просто потому, что так предначертано в божественном плане развития мира. Подобным же образом, без его личной вины, другой человек по божественному предопределению оказывается в числе людей, преданных вечному осуждению. Это учение Августина получило название учения о предопределении. Впоследствии оно вызвало страшные битвы человеческих умов.
Августин находился в состоянии внутреннего раздвоения, ибо он, с одной стороны, был одним из первых людей, которые только что начали ощущать индивидуальность человека и связанную с ней индивидуальную ответственность; с другой же стороны, он еще сохранил понимание учения Плотина. В последующее время это понимание, можно сказать, было погребено. По настоянию византийского императора Юстиниана, вышедший из той же философской школы, что и Плотин, Ориген был объявлен еретиком. По его же указу в 529 г. н. э. была закрыта философская школа в Афинах, и последние приверженцы Платона и Плотина должны были удалиться в изгнание в Персию, где они смогли учредить свою "Академию" в Гондишапуре (время ее расцвета 531-579 гг.).
Теперь достоянием Европы осталась только философия Аристотеля, вся тщательно профильтрованная филистерским человеческим рассудком - филистерским рассудком как таковым. Да и философия эта пришла в Европу окольными путями, через арабов. Теперь европейский человек узнавал о духовном мире из предания, из Священного Писания.
В своем же внутреннем он переживал духовное начало лишь в форме абстрактных понятий, которые он сам порождал, отделяя их от вещей мира внешних чувств. И перед мыслящим человеком вставал коренной вопрос: как же эти понятия, которые я сам как индивидуальность добываю, порождаю, относятся к бытию, к миру, о котором они вещают. Августин все же не мог пробиться к настоящему признанию человеческой индивидуальности. Он принижал ее, воспринимая человечество только как единое целое. Так Августином было создано учение о предопределении, в котором гасла человеческая индивидуальность.
Напротив, крупнейшие философы Средневековья Альберт Великий и Фома Аквинский уже исходили из того, что каждый отдельный человек есть индивидуальность.
Они исследовали свойственный именно такому человеку способ познания в форме абстрактных понятий и отношение этого познания к миру. И вслед за Августином они воспринимали духовное начало только в форме понятий, порождаемых самим человеком внутри своей души и лишенных той принудительной силы, что присуща впечатлениям внешних чувств.
Примечание к главе
1 ...томизм (от лат. Thomas - Фома) - направление в схоластической философии и католическом богословии, сложившееся под влиянием идей Фомы Аквинского. Главная особенность томизма - стремление рационально обосновать фундаментальные положения христианской веры. Уже в 1278 г. томизм был признан официальным учением доминиканского ордена, а с 1879 г. утвержден в качестве господствующей католической доктрины.
В контексте же этих рассмотрений Р. Штейнер именует томизмом скорее не главенствующее сегодня направление католического богословия, а непосредственный внутренний импульс и характер миросозерцания самого Аквината и его учителя Альберта Великого.
Сущность томизма
Лекция в Дорнахе 23 мая 1920 года.
Прослеживая духовное развитие Европы, можно показать, как те идеи, которые мы находим у какой-либо личности VI, VII, VIII, IX столетий, затем переходят в идеи мыслителей последующих столетий, вплоть до ХIII века. Таким образом можно проследить определенную эволюцию идей, абстрактных понятий. Но все это собственно только симптомы более глубокого процесса развития, протекающего, так сказать, за сценой внешних явлений. В глубинах человеческих душ совершается реальное развитие импульсов, носителем которых выступает человек Европы.
Это - органический процесс становления европейского человечества. Вспомним, как начинал Гомер свои эпические песни: "Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына", или же "Воспой, о муза, деяния многостранствовавшего мужа, Одиссея". Люди той эпохи действительно ощущали, что если они хотели высказать нечто значительное, возвышенное, через них тогда гласило некое более высокое духовно-душевное поле обычного сознания человека. В людях той эпохи высказывало себя не индивидуальное "я" человека, но групповая Душа целого человеческого рода.
Когда же Клопшток начинал свою "Мессиаду", то он уже писал: "Воспой, бессмертная душа", то есть обращался к тому индивидуальному существу, что живет в отдельном человеке. В то время, когда писал Клопшток, это ощущение своей индивидуальной души уже сильно развилось у человека. Но этот же внутренний импульс - высвободить, сформировать человеческую индивидуальность - пробуждается и развертывается в течение всей эпохи, со времен начала распространения христианства и вплоть до расцвета схоластики.
Этот процесс становления индивидуального сознания у европейского человека сопровождался душевными битвами, нашедшими свое завершение у Альберта Великого и Фомы Аквинского. Внешне это выглядит так, как если бы Альберт Великий и Фома Аквинский стремились диалектически объединить учение Августина с учением Аристотеля. При этом Альберт был носителем по преимуществу церковных идей, а Фома - носителем тонко разработанных философских идей. Стремление найти согласие между теми и другими идеями, проходит, как основная нить, через все сочинения обоих мыслителей.
И вот, многое из того, что они запечатлели в своих мыслях и что являет собой своего рода расцвет чувства и воли европейского человека, - это продолжает жить дальше, вплоть до наших дней; отсюда мы почерпнули, пусть в скрытом виде, всевозможные идеи для всех наших научных дисциплин, а также и для общественной жизни. Современному человеку учение Августина о предопределении представляется парадоксальным и даже бессмысленным. Но оно выкристаллизовывалось у него в результате тяжкой внутренней борьбы между, с одной стороны, приверженностью учению Плотина, говорившему только о всеобще-человеческом, то есть о присущем человечеству как единому целому, а с другой - пробудившимся в душе Августина ощущением человеческой индивидуальности, стремлением к индивидуальности. Вот почему у Августина его собственное учение получило такую чеканную и вместе с тем душевно окрашенную, сердечную трактовку. Как раз поэтому его личность производит на нас столь сильное впечатление и представляется нам бесконечно располагающей к себе.
Однако уже при жизни Августина некоторые его современники никак не могли примириться с его учением о том, что человек является всего лишь лишенным самостоятельности членом какой-либо одной из двух частей человечества - либо людей избранных, искупленных Богом, либо же наоборот, навсегда осужденных Им. Особенно непереносимой была мысль о людях, навечно осужденных Богом на вечную погибель. Самому Августину уже довелось вести ожесточенную борьбу с Пелагием1, который был уже целиком исполнен индивидуализирующим европейским импульсом, предвосхищая в этом отношении людей позднейших столетий.
Поэтому Пелагий мог рассуждать только следующим образом. Не может быть и речи о том, что человек не в состоянии влиять на свою судьбу; он может и должен породить из своей индивидуальности некую силу, благодаря которой его душа окажется в состоянии примкнуть к тому, что сможет высвободить ее из пленённости внешнечувственнным, поднять в чисто духовные области, где она тогда сможет найти свое искупление и возвращение к свободе и бессмертию. Иначе говоря, отдельный человек может найти в себе самом силу преодолеть первородный грех. Церковь занимала среднюю позицию между этими двумя противниками - Августином и Пелагием - и искала какого-то выхода, какой-то промежуточной формулировки, которая была бы, так сказать, не слишком белой и не слишком черной.
И принятая формулировка гласила: дело обстоит так, как говорил Августин, но вместе с тем и не совсем так, как он говорил; оно обстоит и не совсем так, как говорил Пелагий, но, вместе с тем, в некотором роде и так. Согласно принятой церковной формулировке, люди не делятся извечным мудрым решением Бога на грешников, предопределенных к погибели, и на избранных к благодати; они сами причастны своему впадению в греховность или же достижению преисполненности благодатью. Но, вместе с тем, если и нет божественного предопределения, есть божественное провидение. Бог заранее провидит, какой человек останется в смертном грехе, а какой исполнится благодати.
Эта церковная догма получила распространение. Суть же дела заключалась вовсе не в некоем божественном провидении, а в отчетливой постановке следующего вопроса и в оправданном ответе на него: может ли отдельный индивидуальный человек найти в своей индивидуальной душевной жизни такие силы и так связать себя с ними, чтобы они смогли вывести его из свершившегося отделения его от божественно-духовной сущности мира и снова вернуть его к ней?
Это была одна из кардинальных проблем, к которой мыслители высокой схоластики приступали во всеоружии логической силы суждения, логической техники, достигшей у них, можно сказать, наивысшего расцвета. Отвлекаясь сейчас от самого содержания учений этих мыслителей, можно с полным правом сказать, что никогда ни до того, ни позже не мыслили так точно, так внутренне логично, как во время расцвета высокой схоластики. Именно в то время выступило чистое мышление, с математической точностью переходящее от одной идеи к другой, от одного суждения к другому, от одного вывода к следующему, отдавая себе при этом полный отчет в каждом своем шаге, в каждом наималейшем своем движении. Нужно представить, в какой среде, в какой обстановке протекало тогда это мышление. В реальности это фактически всегда была тихая монастырская келья, далекая от шума мирских событий. И это было одним из тех обстоятельств, что позволили в XII-XIII вв. развиться мыслительной деятельности, с одной стороны, поразительно пластичной, а с другой - обладавшей тончайшими и точными контурами. И подобную деятельность сознательно стремились осуществить такие люди, как Альберт Великий и Фома Аквинский. Однако, при этом нужно вспомнить еще и о следующем.
Эти мыслители считали себя обязанными приложить всю силу своего острого мышления к тому, чтобы логически доказать догмы, уже принятые церковью.
С другой же стороны, они стремились внести в них ясность, достичь более определенных ответов, чем, например, тот, который давало церковное половинчатое пелагианство. Вот это и отличает произведения мыслителей высокой схоластики от писаний Отцов церкви, от патристики.
В мышлении Альберта и Фомы действовали также и полусознательные импульсы, исходившие от фигуры Дионисия Ареопагита, учение которого каким-то таинственным образом вливалось с VI века в европейскую духовную жизнь, а затем через мыслителей VII, VIII столетий дошло и до Фомы Аквинского. Сочинения Дионисия Ареопагита содержат в себе неоплатонизм Плотина, но в особенном виде и в совершенно христианской трактовке.
Согласно Дионисию Ареопагиту, к Божественному ведут два пути познания. На одном из них надлежит извлекать из вещей внешнего мира заключающееся в них существенное, совершенное, чтобы таким образом приблизиться к самому Сверхсовершенству. Ибо Оно ведь излилось некогда в мировое бытие, дифференцировалось и индивидуализировалось в его свершениях и в его вещах. Так можно приблизиться к некоему представлению о Божестве.
Другой же путь - это путь отрицания, когда человек отвергает все, что относится к вещам внешнего мира, изглаживает из своего сознания все их привычные имена (понятия) и, таким образом, вступает в особое душевное состояние, при котором он больше ничего не знает о мире внешних чувств. И если в этом душевном состоянии человек сохранит способность иметь сознательные переживания, то он окажется перед Неизреченным, которое не может быть обозначено никаким именем, никаким понятием. Тогда он познает Бога, Сверхбожество (?bergott) в его высочайшей красоте (?bersch?nheit).
Но уже сами эти возвышенные наименования вводят в заблуждение, будучи лишь намеками на переживание таким человеком Неизреченного.
Итак, Дионисий Ареопагит дает, можно сказать, одновременно две теологии - во-первых, рационалистическую, позитивную и, во-вторых, мистическую теологию отрицания.
Если идти только первым путем познания, то оказывается, что он, можно сказать, теряется в божественном пространстве. Им не приходят к Богу. Но, тем не менее, этим путем необходимо идти, ибо без его прохождения к Богу никак не придти. Второй путь познания, устремленный к Неизреченному, сам по себе также не приводит к Божеству. Но если пройти оба эти пути познания, то в пункте их пересечения находишь Бога. Оба эти пути познания являются верными, но лишь в своей совокупности.
Мудрость Дионисия Ареопагита нашла свое последнее откровение в личности Скота Эригены. Согласно преданию, в последние годы своей жизни он был приором бенедиктинского монастыря и был убит своими же монахами, возмущенными проповедывавшимся им учением. В 1225 году сочинения его были объявлены еретическими по решению папы Гонория и публично сожжены на костре в Париже. Его переводы сочинений Дионисия Ареопагита с греческого на латинский впервые были напечатаны несколько раз в конце XVI века, а собственные его сочинения были изданы только в конце XVII века. Тем не менее, и Альберт Великий, и Фома Аквинский испытали глубокое влияние идей Скота Эригены, а опосредованно через них - Дионисия Ареопагита и Плотина.
***
Подлинный смысл и значение сочинений Плотина открываются современному человеку лишь тогда, если он рассматривает их в свете данных сегодняшней духовной науки. На неподготовленного же читателя его сочинения, как и их изложение другими авторами производят впечатление хаотичности и витиеватости (kraus).
Между тем, учение Аристотеля о составе человеческого существа представляется каким-то рационализированным, скорее даже переводом в физические понятия тех древних воззрений сверхчувственного происхождения, что были еще у Платона, а впоследствии снова всплыли у Плотина. У Аристотеля мы находим, собственно, систематическое описание сверхчувственных тайн состава человеческого существа. Так, например, Аристотель проводил различие между активным умом (Nous poietikos), рассудком человека и его страдательным умом (Nous pathetikos). Впоследствии о том же, но по-своему, будет говорить Плотин.
В те времена, когда был жив платонизм или хотя бы его рационалистический фильтрат - аристотелизм, индивидуальное самоощущение не достигало еще у человека той степени развития, которая позднее повлекла за собой постановку кардинальных проблем, выдвинутых мыслителями высокой схоластики. То, что мы теперь называем рассудком, человеческим интеллектом, восходит (даже терминологически) к периоду высокой схоластики. Интеллект есть проявление индивидуального человека. Или, иначе говоря, логическое и диалектическое мышление есть проявление общечеловеческой, но индивидуально дифференцированной организации. Когда человек уже чувствует себя индивидуальностью, он говорит себе: в человеке возникают мысли, ими внутри него представлен внешний мир; в своей совокупности они дают отображение внешнего мира. Внутри человека появляются, работают, с одной стороны, представления, связанные с отдельными, конкретными существами и вещами, а с другой стороны - общие понятия: "человек вообще", "волк вообще" и т.п. Мыслители высокой схоластики называли их, следуя древнему словоупотреблению, "универсалиями". Они отчетливо сознавали, что эти последние суть прежде всего концепции, собирательные понятия, образованные человеком внутри своего индивидуального существа. Действительно, если мы взглянем на окружающий мир, мы найдем там не "человека вообще", не "тип волчьей природы", а отдельных людей, отдельных волков и т.д. Но, с другой стороны, если посадить волка в клетку и кормить его одними ягнятами, то несмотря на то, что, как известно, через определенное время в результате обмена веществ вся материя, из которой образуется плоть волка, будет заменена материей, принадлежащей ягнятам, - несмотря на это волк, тем не менее, не сделается ягненком, но останется по-прежнему волком. Отсюда следует, что "волчья природа" как тип не сводима к материальному составу, к физической телесности волка.
Эта проблема связи "универсалий" с отдельными вещами, с существами мира внешних чувств была исключительно острой именно в период расцвета схоластики. Ибо она непосредственно задевала интересы церкви. Дело в том, что еще в XI-XII веках выступили такие мыслители, как например, Росцелин, которые утверждали следующее. Эти общие понятия, эти "универсалии"2 - не более чем слова, имена, посредством которых мы обозначаем, выделяем в окружающем мире вещи, обладающие некоторыми общими признаками. Так возникло учение "номинализма"3. Росцелин с догматической серьезностью приложил философию номинализма к христианскому учению о Божественной Троице: если - что он считал верным - обобщение, объединение в одном (Zusammenfassung), есть лишь слово, наименование, тогда Троица - также лишь слово, а единственно действительными являются Индивидуумы: Отец, Сын и Св. Дух. Но человеческий разум постигает их лишь через их имена. - Средневековые мыслители довели эти вещи затем до последних выводов. Церковь же на синоде в Суассоне объявила это учение еретическим как частичный политеизм.
Против номинализма выступили, будучи церковными деятелями, сначала Альберт Великий, затем Фома Аквинский - по преимуществу как философ. В них еще была действенна духовная традиция, восходившая через Скота Эригену к Дионисию Ареопагиту, к Плотину. Те еще знали, что были люди, которые могли подниматься выше понятий и реально лицезреть духовный мир. О нем как о некоей действительности говорил также и Фома Аквинский. Там, говорил он, имеются не просто абстракции, там пребывают реальные духовные существа, свободные от материальных тел; он называет их Ангелами и помещает их в область, называемую им Десятой мировой сферой.
Для Альберта Великого и для Фомы Аквинско-го было предметом своего рода веры то, что над абстрактными понятиями есть нечто Высшее, откровением чего и являются эти абстрактных понятия. И для них вставал вопрос: какой же реальностью обладают эти абстрактные понятия? Они исходили из той мысли, что окружающий мир внешних чувств есть некое откровение высших духовных миров. И когда мы изучаем окружающий мир, отдельные минералы, растения и животных, то мы в какой-то мере предощущаем, что в них заключается нечто, восходящее к высшим духовным мирам. Наблюдая, изучая мир царств природы, прибегая к своей способности мышления, логического рассудка, мы должны уяснить себе следующее. Мы обращаем наши глаза, остальные органы наших внешних чувств на окружающий мир и вступаем в связь с этим миром. Затем мы отворачиваемся (weg gehen) от него. И мы определенным образом сохраняем - как воспоминание - то, что восприняли от этого внешнего мира. Но вот мы вновь вглядываемся внутри себя в это воспоминание. И тогда перед нами собственно впервые выступает универсальное, то общее, что являет собой "человек вообще", "волк вообще" и т.п.; оно впервые выступает во внутренней, понятийной форме. И вот что здесь говорят Альберт Великий и Фома Аквинский: "Когда ты обращаешься к тому, что отражает тебе твоя душа из пережитого ею во внешнем мире, ты имеешь дело с живущими в твоей душе универсалиями. Из воспоминания обо всех встреченных тобою людях ты образуешь понятие "человека вообще". Ты имеешь здесь универсалии, живущие в душе после восприятия ею вещей внешнего мира. Человек тогда переживает в этих вещах [их]* духовное начало; но только он переводит его в форму "универсалий пост рем"(Universalien post rem).
Итак, Альберт Великий и Фома Аквинский полагают, что в то мгновение, когда человек посредством своей способности мышления познает окружающий мир, он познает нечто реальное. Благодаря тому, что человек не остается только при том, что видят его глаза, слышат его уши и так далее, например, в волке, но может еще мыслить о нем, образовать в себе понятие о "волке вообще", о "типе волчьей натуры", - благодаря этому он переживает в вещах нечто такое, что не исчерпывается восприятиями внешних чувств, но может быть постигнуто в них мыслительно. Он переживает "универсалии ин ребус" (in rebus).
Согласно Фоме Аквинскому, следует отчетливо проводить различие между "универсалиа пост рем" и "универсалиа ин ребус". То, что человек переживает в своей душе как идею, оперируя своим рассудком, это является тем, посредством чего он переживает реальное в вещах мира. Таким образом, в отношении формы [проявления] "универсалии ин ребус" отличны от "универсалий пост рем", которые затем остаются в душе; но внутренне они суть то же самое. Кроме того, следует еще различать "универсалии анте pec" (Universalia ante res), предшествовавшие вещам мира внешних чувств. В отношении формы они отличны от "универсалий ин ребус", но по содержанию они, опять-таки, то же самое. Это - универсалии, пребывающие в Божественном разуме, а также в разуме ангельских духовных существ, служащих Богу.
То, что для людей древности, а также для Плотина и затем для Дионисия Ареопагита было непосредственным духовно-чувственно-сверхчувственным восприятием реальностей духовного мира и что, согласно Дионисию Ареопагиту, нельзя было, не исказив его истинного образа, обозначить каким-либо именем, понятием, - это теперь и сделалось у мыслителей схоластики предметом самых тонких логических рассуждений, размышлений. Проблема, которая прежде решалась путем ясновидения, посредством сверхчувственных восприятий, спустилась теперь в сферу мышления, в сферу деятельности рассудка. В этом сущность философии Альберта Великого и философии Фомы Аквинского, - сущность высокой схоластики вообще, ставшей порождением той эпохи, когда внутреннее переживание человеком своей индивидуальности достигло кульминации.
Развитие схоластики было неразрывно связано с церковной жизнью ХII-ХIII веков. Для мыслителей того времени являлось истиной, с одной стороны, то, что может быть добыто посредством мышления, посредством точнейше продуманной логики, а с другой стороны - то, что было содержанием веры, что сохранялось и передавалось как церковные догмы.
Рассмотрим, какую позицию в отношении того и другого занимал такой мыслитель, как Фома Ак-винский. Он задавался вопросом: "Можно ли доказать бытие Бога посредством логики?" И отвечал: "Да, можно!". Фома Аквинский дал целый ряд логических доказательств бытия Бога. В одном из них он - а до него уже Альберт Великий - примыкает к логическому выводу Аристотеля о Боге как о неподвижном Движителе мира. Бог- с необходимостью существующая Первосущность, необходимый неподвижный Перводвижитель: таким вырисовывается Бог логическому мышлению.
К Божественной же Троице никакой логический ход мыслей привести не может. Но идея Божественной Троицы передана нам религиозной традицией. И в отношении этой идеи человеческое мышление может пойти лишь настолько далеко, чтобы подвергнуть ее логическому испытанию -не является ли эта идея бессмысленной? И тогда логически находят, что идея Божественной Троицы - не бессмысленна, но вместе с тем она логически и недоказуема; в нее можно и должно только верить.
Так стояли мыслители схоластики перед исполненным для них великого значения вопросом: насколько далеко можно продвинуться вместе с предоставленным самому себе человеческим рассудком? В то время были церковные мыслители, которые говорили, что некоторые положения могут быть истинными теологически и, вместе с тем, -ложными философски. Они считали вполне допустимым, что человеческий рассудок может придти к совсем другим выводам, чем сообщаемые содержанием веры: например, он может счесть бессмысленной идею Божественной Троицы. Это было учение о двоякой истине (doppelte Wahrheit).
А вот чему придавали особое значение в своем учении Альберт Великий и Фома Аквинский: нет никакого противоречия между содержанием веры и познаниями, добытыми человеческим рассудком; между ними можно установить полное согласие. Правда, человеческий рассудок может дойти лишь до известной границы, за которой имеет место уже содержание веры, однако противоречия между ними нет.
В то время это представляло собой радикальную позицию. Ибо большинство руководящих церковных авторитетов тогда твердо придерживалось учения о двоякой истине. Отзвуки всего этого живы и в настоящее время.
Итак, главной проблемой для Альберта Великого и Фомы Аквинского было взаимное отношение рассудочного познания и содержания веры. Как можно достичь того, чтобы, во-первых, понять рассудком то, во что верит церковь и, во-вторых, защитить это от его противников? - В этом отношении Альберт и Фома сделали очень много. В то время в Европе имели хождение не только церковные догмы, но также и воззрения, связанные с распространением ислама; нечто оставалось также и от манихейских представлений.
Арабский мыслитель XII века Аверроэс учил следующему. То, что человек мыслит посредством своего чистого интеллекта, принадлежит не исключительно ему лично, но принадлежит всему человечеству в целом. Человек "А" имеет свое собственное тело, но его ум является общим как для человека "Б", так и для человека "С" и так далее. Можно сказать, что для Аверроэса человечество в целом обладает одним единым разумом, в который погружены и из которого черпают свои мысли все индивидуумы. В нем живут они некоторым образом своими головами. Когда же они умирают, их тела извлекаются из этого универсального разума. Поэтому не существует бессмертия в смысле продолжения индивидуального сознания человека после смерти. Всегда продолжает существовать только всеобщий разум, присущий человечеству в целом.
Для Фомы же Аквинского дело обстояло следующим образом. Он признавал всеобщность разума; однако, вместе с тем, он стоял на той точке зрения, что всеобщий разум внутренне соединяется не только с тем, что является индивидуальной памятью в отдельном человеке, но что он во время жизни этого человека соединяется также с активными силами человеческой телесной организации. Образуя таким образом некое единство, он объединяет собой всё то, что действует в человеке как формообразующие вегетативные силы, как силы животной природы, как силы памяти; все это во время земной жизни человека оказывается в какой-то мере проникнутым и преобразованным не только всеобщим разумом, но и моральным строем. Согласно Фоме Аквинскому, человек преобразует свое индивидуальное благодаря всеобщему духовному началу и затем вносит это после своей смерти в духовный сверхчувственный мир.
Таким образом, у Альберта Великого и Фомы Аквинского не шло никакой речи о предсуществовании (Praexistenz) человеческого "я"; однако признавалось его посмертное существование (Postexistenz). В этом они следовали за Аристотелем, развивали аристотелизм. Итак, великие логические вопросы касательно универсалий смыкались у них с проблемой космической судьбы отдельного человека.
Для Фомы Аквинского было весьма характерным и важным то, что напряженно работая в поисках доказательств бытия Бога, он одновременно пришел к следующему выводу: рассудочным путем, который доступен человеческой душе, можно придти лишь к представлению о том Божестве, которое в Ветхом Завете по праву именуется Ягве. Если же хотят придти ко Христу, тогда необходимо переходить к содержанию веры, ибо к Нему не переживает в пределах своего собственного духовного содержания; таким путем, например, не придти к постижению вочеловечения Христа и т.д. В этой связи нужно сказать, что те церковные деятели, которые говорили о двоякой истине, вовсе не придерживались того воззрения, что истина является окончательно двоякой. Нет, они полагали, что теологические откровения и достижения рассудочного познания лишь временно оказываются противоречащими друг другу; и человек имеет дело с двумя противоположными истинами только потому, что некогда он впал в первородный грех, вплоть до самого внутреннего ядра своей души.
Этот вопрос мерцает определенным образом в подосновах души и Альберта Великого, и Фомы Аквинского: да, разве мы не причастны своим мышлением - тем, что мы переживаем в себе как разум -первородному греху? Разве не потому, что наш разум отпал от духовного начала, он наколдовывает нам как истины то, что отличается от подлинных истин? И вот, если мы примем в наш разум Христа, примем в наш разум нечто такое, что преображает этот разум и поднимает его вперед, ввысь, - только тогда его познания окажутся в согласии с той истиной, что составляет содержание веры.
Как раз грехопадение разума было в определенном смысле обоснованием того, что мыслители, предшествовавшие Альберту Великому и Фоме Аквинскому, говорили о двух истинах. Они полагали, что наш разум подпал первородному греху и потому может вступать в противоречия с чистой истиной веры.
И вот выступили Альберт Великий и Фома Аквинский. По их представлениям, будет неверным считать, что когда мы чисто логическим путем углубляемся в "универсалии ин ребус", то есть когда мы воспринимаем в себя действительно содержащееся в вещах окружающего мира, - что мы тогда якобы грешим против истины. Вот что стояло как главный вопрос в период высокой схоластики и что осталось ею неразрешенным: каким образам вступает Христос в человеческое мышление? Каким образом человеческое мышление становится пронизанным Импульсом Христа? Каким образом Христос ведет собственно человеческое мышление ввысь - в ту сферу, где оно может соединиться с тем, что является духовным содержанием веры?
Поэтому Альберт Великий и Фома Аквинский были вынуждены отказать человеческому разуму в праве переступить через те ступени, которые могут ввести сам разум в духовный мир. Для высокой схоластики остался неразрешенным вопрос: каким путем может развиваться человеческое мышление для достижения восприятия этого духовного мира?
И важнейшим итогом высокой схоластики предстает даже не то, что существует как все её содержание, но то, что встало перед ней как центральный вопрос. И этим вопросом было: как может быть внесена в мышление христология? Как мышление может быть пронизано Христовым началом?
Этот вопрос стоит всемирно-исторически в момент, когда в 1274 году умирает Фома Аквинский. К этому времени он мог пробиться только до постановки вопроса.
И вопрос этот со всей сердечной искренностью стоял тогда в европейской духовной культуре. То, чем ему надлежит стать, могло сначала быть намечено лишь таким образом, что говорили: человек до известной степени проникает в сущность, в духовную сущность вещей. Но затем должно следовать содержание веры. То и другое не должны только противоречить друг другу, они должны пребывать во взаимном согласии (Konkordanz). Однако, обыкновенный человеческий рассудок содержание высших предметов - скажем, Троицы, воплощения Христа в человеке Иисусе и так далее -не может постигнуть, опираясь только на самого себя. Рассудок может продвинуться в познании лишь настолько, чтобы сказать, например: мир мог бы возникнуть (etntstanden) во времени, но мог бы и пребывать от вечности. Однако Откровение гласит, что он возник во времени. И если вы [признав данное в Откровении] вновь спросите свой разум, то теперь найдете основание тому, почему возникновение во времени является разумным, мудрым.
Так предстает великий схоласт принадлежащим целой эпохе. И гораздо больше, чем думают, во всей сегодняшней науке, во всей общественной жизни современности продолжает еще жить - однако, конечно своеобразным образом - то, что сохранилось от схоластики.
Насколько жива, в сущности, схоластика в наших душах и какую позицию должен, собственно, занять современный человек по отношению к тому, что живет еще сегодня от схоластики, - об этом мы будем говорить завтра.
Примечания к главе:
* в квадратные скобки заключены слова, отсутствующие в оригинале и введенные при редакции перевода с целью возможно более ясного или связного звучания данного места в полном соответствии с контекстом.
1 Пелагий (ок. 360-418) - христианский монах кельтского происхождения. Проповедовал в Риме, Африке, Палестине. Пелагианство, распространившееся в странах Средиземноморья в начале V века, осуждено как ересь на III Вселенском соборе в 431 г.
2 От лат. universalis - "общее".
3 Номинализм (от лат. nominalis) - относящийся к именам, названиям.
Значение томизма для современности
Лекция в Дорнахе 24 мая 1920 года.
Мыслители высокой схоластики имели дело, прежде всего, с человеческой индивидуальностью их времени, которая в своем переживании познания уже не могла достичь того настоящего конкретного духовного содержания, что осталось от неоплатонизма, от Дионисия Ареопагита, от Скота Эригены.
Рассмотрим то, что происходит далее, на примере францисканского монаха Дунса Скота, который, предположительно, происходил из Ирландии и учил в начале XIV века в Париже, а позднее в Кельне. Для Дунса Скота вновь возник вопрос: как живет человеческое душевное в человеческом телесном? Вслед за Фомой Аквинским, он представлял себе это душевное действующим во всей совокупности телесной организации человека. Когда человеческое существо в результате зачатия и рождения вступает в физически-чувственное бытие, оно получает через физически-чувственное наследование силы минерального происхождения, вегетативные силы и силы восприятий внешних чувств; сюда и вступает, собственно, человеческий интеллект, до того не предсуществовавший. Это -деятельный интеллект, который Аристотель называл "ноус поетикос" (Nous poietikos). Однако, для Фомы Аквинского дело представлялось таким образом, что этот "ноус поетикос" затем некоторым образом как бы вбирает в себя всё душевное - вегетативное душевное и животное душевное, лишь напитывая [им]* телесное, чтобы преобразовать, метаморфизировать все это согласно своей природе и затем после смерти унести это из человеческого тела с собой в вечные духовные выси (из которых происходит - правда, без предсуществования - сам "ноус поетикос"), унести туда то, что он обрел в человеческом теле. Дунс Скот уже не мог себе представить, что имеет место такого рода "вбирание" деятельным рассудком всей системы сил человеческого существа. Он мог себе представить человеческую телесность лишь как нечто готовое, полагая, что вегетативное и жизненное начала остаются более или менее самодовлеющими в течение земной жизни человека и сбрасьваются им после смерти вместе с физическим телом; и лишь собственно духовное начало, "интеллектус агенс" (intellectus agens) переходит в бессмертие. Дунс Скот совсем не мог представить себе того, что еще прозревал Фома Аквинский, а именно - пронизания всего человека его душевно-духовным началом. Ибо для Дунса Скота человеческий рассудок уже стал не представителем духовного мира, а чем-то абстрактным. Он уже не мог представить, что в "универсалиях" идеально как раз и дается духовная реальность. Таким образом, Дунс Скот впал в номинализм, который полагает, что идеи, общие понятия суть не более чем производимые человеческим умом концепции, имена, слова, служащие для понимания вещей окружающего мира. Номиналистом был и его ученик Вильгельм Оккамский. Оказалось, что интенсивная позитивная работа, проделанная Альбертом Великим, Фомой Аквинским и рядом других мыслителей, лишь на какое-то время прервала дальнейшее наступление и развитие номинализма, под власть которого подпадает европейское человечество.
Идеи, которые для греков или, по меньшей мере, для посвященных Греции, еще были последними, ниспосланными свыше проявлениями реального духовного мира, стали получать все более и более абстрактный - словесный - характер для европейского сознания. Позднее лишь отдельные мыслители поднимаются над номинализмом. Среди них неизмеримо возвышается фигура Лейбница, который в ответ на вопрос: "как мы познаем посредством идей?" имел мужество дать картину мира, как состоящего из чисто духовных существ, монад. Однако, для Лейбница, с его абстрактным мышлением послесхоластической эпохи, это была уже не Иерархия конкретных духовных существ, а некие более или менее стадиально группированные духовные точки, монады.
Родоначальником философии Нового времени, исходившей из номинализма, по праву считается Декарт. Основное положение философии Декарта: "я мыслю, следовательно, я существую", его знаменитое cogito ergo sum восходит, собственно, к Августину, говорившему: я могу сомневаться в том, что существуют вещи мира внешних чувств, что существует Бог; я могу сомневаться во всем, но самое мое сомнение есть факт; когда я сомневаюсь - я существую; таким образом, сомнение есть надежный исходный пункт познания.
С этого начинается философия интеллектуализма, рационализма нового времени; она есть своего рода отзвук схоластики. Собственно, против философии Декарта можно сделать простое возражение - простое, как яйцо Колумба: когда человек с вечера до утра погружен в глубокий сон без сновидений, он ведь не мыслит; но разве он тогда не существует?! - Так можно спросить себя утром, встав после сна. Кроме того, заметим, что все познавательное устремление Декарта было сосредоточено на чисто интеллектуальной проблеме: как я могу достигнуть уверенности в достоверности познания? Как я могу преодолеть сомнение в нем? Как я могу испытать, доказать, что вещи окружающего мира существуют, что сам я существую? Такая постановка вопроса ведет свое происхождение от номинализма, представители которого, в отличие от Альберта Великого и Фомы Аквинского, уже не могли выработать целостное мировоззрение, охватывающее едва ли не всю Вселенную, но уже искали уверенности просто в том, что взирая на мир, на человеческую душу, имеешь дело с некой реальностью, а не с обманчивой видимостью, не со сплошной иллюзией.
Кроме того, можно, пожалуй, почувствовать, что в том интеллектуализме, в том мыслительном к которому определенным образом пришла человеческая индивидуальность, еще не ощущается проблема Христа.
Проблема Христа вставала, быть может, перед Августином, когда он мыслил человечество еще как единое целое. Христос внутри отдельной человеческой души, я бы сказал, брезжил христианским мистикам Средневековья. Но Он не светил достаточно ясно и явственно для тех, кто искали Его, исходя лишь из того мышления, которое было столь необходимым для нарождавшейся человеческой индивидуальности, или же исходя из того, что было добыто этим мышлением. Ибо они отклоняли то, что является Христовым началом как раз для внутреннейшего в человеке, а именно, отклоняли импульс развития, метаморфозы мышления. А оно, как раз, должно само измениться для того, чтобы смочь подняться в вышнюю сферу познания и бытия. Необходимость этого с полной отчетливостью ощутил последователь Декарта - Спиноза, личность и учение которого недаром оказали глубокое влияние на таких людей, как Гердер и Гете. Хотя Спиноза, как кажется, стоит еще совершенно внутри интеллектуализма, исходящего, пусть и в преображенном виде, из схоластики, но он трактует этот интеллектуализм особенным образом. Согласно Спинозе, человеческое мышление не должно оставаться таким, каким оно выступает в повседневной жизни и в обычной науке. Оно должно подвергнуться преобразованию, развитию. И тогда духовный, сверхчувственный мир через некий род "интуиции" (как называет это Спиноза) откроется такому мышлению, наполнит его духовным содержанием.
Когда мы научаемся, с одной стороны, мыслить строго - как это происходит в математике, - а с другой стороны развиваем, поднимаем наше мышление до ступени интуиции, тогда ему открывается сущность исторического развития человечества, открывается - согласно учению пришедшего из иудейства Спинозы - мистерия воплощения Христа в человеке Иисусе. И замечательным образом лучится из трудов еврея Спинозы следующая мысль: высшее откровение Божественной субстанции предстает в Христе. - В Христе интуиция восходит до теофании, до вочеловечения Бога, и глас Христа есть при этом поистине глас Бога и Путь к спасению. Как основной тон эта мысль пронизывает всю "Этику" Спинозы. Но только нужно уметь читать ее между строк, как читал ее Гете.
Учение Спинозы, однако, не стало доминирующим. И европейский человек стал всё больше и больше увязать (sich spinnen) в следующей мысли, ведущей свое происхождение от номинализма: разве может человек выйти за пределы самого себя и что-либо воспринять в себя от внешнего мира? Это настроение души выступило уже в XVII веке у Локка, который говорит: даже уже то, что мы воспринимаем как цвета и как звуки во внешнем мире, - уже оно не является чем-то, что приводило бы нас к реальности внешнего мира; всё это есть, в сущности, лишь воздействие внешнего мира на наши чувства; всё это, в конце концов, вплетено в нашу собственную субъективную организацию. Такова одна сторона тогдашнего положения вещей.
Другая сторона выступает у Бэкона Веруламского, мировоззрение которого целиком проникнуто номинализмом. Он говорит: реальность предстоит перед нами как мир внешних чувств, о ней сообщают нам только данные внешних чувств, эмпирические наблюдения; нужно покончить со всем суеверием пустых имен. Таким образом, для Бэкона духовный мир, так сказать, уже улетучивается, он не может быть предметом точного знания, науки, но лишь содержанием веры.
В XVIII веке номинализм, как кошмар, довлеет над Юмом, согласно которому даже причинно-следственные связи привносятся в вещи самим человеком, следующим внешней привычности явлений.
Зададимся теперь вопросом: в каком отношении теория познания, разработанная Альбертом Великим и Фомой Аквинским, стоит к современному естественнонаучному мировоззрению? Альберт Великий и Фома Аквинский в XIII веке учили, что человеческий разум может продвинуться по пути познания того, что является содержанием веры, лишь до определенной границы. Такие загадочные мировые проблемы, как телесное воплощение Христа, духовное пресуществление даров в таинстве причастия и так далее - все это лежит по ту сторону границ человеческого познания.
***
Обратимся к XIX столетию. Мы видим здесь одно знаменательное событие. В 70-х годах на знаменитом собрании немецких естествоиспытателей Эмиль Дю Буа-Раймон произнес свою впечатляющую речь "О границах познания природы" ("Игнорабимус") и вскоре после этого - речь "Семь мировых загадок". Это - прямая противоположность и, вместе с тем, своего рода перевоплощение учения высокой схоластики, согласно которому загадки спиритуального мира являются непознаваемыми для человеческого рассудка; по эту сторону границы познания находится человек, а по ту сторону - Бог и ангелы. Для Дю Буа-Раймона же по ту сторону познания пребывают атомы, материальный мир с их неразрешимыми для человеческого познания загадками.
В этой связи как о значительнейшем явлении, по меньшей мере в истории философии XIX века, приходится говорить о кантианстве. После того, как в середине XIX века философия Канта была несколько оттеснена, немецкие философы в 60-х годах того же столетия провозгласили лозунг: "назад к Канту!". С тех пор было напечатано невообразимое количество кантианской литературы и выступило целое полчище философов-кантианцев (и среди них даже такие весьма самостоятельные мыслители, как Фолькельт, Коген и некоторые другие). Перед Кантом в конце 60-х - начале 70-х годов XVIII века стоял вопрос не о самом содержании мировосприятия, не о том, что в нем, собственно, предстает в определенных образах, понятиях и идеях о вещах мира; нет, перед ним со всей силой встал, по сути, формальный теоретико-познавательный вопрос: Как можем мы достигнуть уверенности (Sicherheit) относительно чего бы то ни было во внешнем мире, относительно [самого] бытия внешнего мира? Канта, находившегося под влиянием Юма, гораздо больше терзает вопрос о достоверности (Gewissheit) познания, чем какое бы то ни было содержание этого познания. Вопрос: как относится то, что мы называем понятиями, и вообще всё содержание познания к внешней действительности, - этот вопрос важнее, гораздо важнее для Канта, чем все содержание познания. Содержание своего мировоззрения Кант набирает, можно сказать, отовсюду, а затем схематизирует, систематизирует это содержание. Но при этом Кант все время выдвигает вопрос: каким образом можно достигнуть такой надежности познания, такой его достоверности, какая есть у математики (именно у математики, говорит он)? И к этой надежности Кант приходит таким способом, который есть не что иное, как преобразованный и крайне замаскированный номинализм, - но только такой номинализм, который распространяется, помимо идей, "универсалий", также и на формы [явлений] мира внешних чувств, на пространство и время. Кант говорит: "То, что мы развертываем в нашей душе как содержание познания, не имеет, по сути дела, ничего общего с тем, что мы извлекаем из вещей; мы сами, так сказать, набрасываем (st?lpen) это там, вовне, на вещи. Всю форму нашего познания мы получаем из самих себя".
Иными словами, как это ни парадоксально, но приходится признать, что Кант следующим образом пытается обосновать надежность нашего познания: он вообще отрицает, что содержание познания мы черпаем из вещей мира, и утверждает, что мы извлекаем его из самих себя и вносим его в вещи мира. Иначе говоря - и это и есть парадокс, - мы обладаем истиной потому, что сами создаем ее; мы имеем в субъекте истину потому, что сами производим ее. Мы лишь вносим эту истину в вещи мира.
Здесь мы имеем последний вывод из номинализма. То есть кантианство является усугублением номинализма, в некотором смысле - кульминационным пунктом номинализма, и вместе с тем - крайним упадком европейской философии, банкротством самого человеческого стремления к истине. Кант нанес сокрушительный удар всякой объективности познания, всякой возможности человека получить доступ к реальности вещей мира. Более того, Кант подорвал всякое стремление к истине, ибо истина не может существовать, если она дается только в субъекте.
Исходя из субъективизма, в котором он утопил всякое познание, Кант провозгласил затем следующий так называемый постулат свободы, бессмертия и идеи Бога. Мы должны делать добро, исполнять категорический императив, - следовательно, мы должны мочь это делать. Это значит, что мы должны обладать свободой; однако, мы ее не имеем, пока живем здесь в физическом теле. Отсюда следует, что категорический императив мы сможем осуществить во всей его полноте, только находясь вне тела. Следовательно, должно существовать бессмертие. Но также и тогда мы, как люди, не можем еще распознать категорический императив. То, что является содержанием нашего поступка в мире, - если мы усердствуем в том, что мы должны, - это должно быть внесено в мир Божеством. Следовательно, Бог должен существовать.
Выводя эти постулаты веры, Кант сказал: "Я должен был разрушить знание, чтобы дать место вере". В отличие от содержания веры у Фомы Аквинского, которое [вполне] основывалось на религиозной традиции, у Канта оно получает абстрактный характер. Таким образом, доведя до последних выводов учение номинализма, Кант стал тем философом, который уже вообще решительно отказал человеку во всем том, что возможно иметь в своем познании для достижения какой-либо реальности. Поэтому против Канта выступил Фихте, затем Шеллинг, Гегель, другие мыслители XIX века. Например, все то, что Кант объявил всего лишь миром явленного или кажущимся миром, Фихте пытался добыть из своего собственного творческого "Я", которое он, однако, мыслил коренящимся в бытии мира. Для того, чтобы вырваться из кантианства, Фихте вынужден был стремиться ко все более интенсивному, можно сказать, к становящемуся все более и более мистическим переживанию души. Фихте, собственно, не мог даже поверить, что Кант действительно мог мыслить то, что содержится в его "Критиках". Поначалу он думал, можно сказать, в своей философской наивности, что сам он делает лишь последние выводы из философии Канта1.
Однако все это, по сути дела, не коснулось того, что произошло в развитии западноевропейского человечества благодаря успехам естествознания XIX века. Его деятели, собственно, почти ничего не понимали в философии и многие из них впали в грубый материализм. А то, столь значительное, что содержалось, например, в миросозерцании и исследованиях Гете, оказалось полностью утраченным для культуры XIX века. Между тем в миросозерцании Гете заложено начало того великого, что могло бы развиться из томизма, если бы последний, так сказать, фронтально развернувшись, обратился лицом к естествознанию. Фома Аквинский мог лишь в абстрактной форме доказывать, что душевно-духовное начало действительно проникает вплоть до самой незначительной деятельности человеческого организма и его отдельных органов. Гете же положил начало новому направлению в развитии [опытного] естествознания в духе Фомы Аквинского своим учением о цвете, своей морфологией, своим учением о растениях и животных.
Однако полное осуществление этого гетевского направления в естествознании реализуется, только если [продолжая его] современная наука о духе выработает, исходя из ее собственных возможностей, разъяснение (Aufkl?rung) естественно-научных фактов.
У Фомы Аквинского можно найти, кроме того, также зачатки новой эстетики, разработанной затем Гете2.
В 80-х годах XIX века мне пришлось начинать с решительного объяснения, с решительного размежевания с кантианством. Это было сделано в книгах "Истина и наука" и "Основные черты теории познания гетевского миросозерцания", а затем в книге "Философия Свободы"3.
Эти исследования исходят из того, что в мире восприятий внешних чувств, который нас окружает, действительно не может быть непосредственно найдена истина. Наблюдения над миром внешне-чувственных восприятий, будучи проведены вполне объективно и основательно, приводят к пониманию того, что этот мир восприятий не есть нечто целое; этот мир восприятий предстает тогда как нечто такое, что осуществляем мы сами. Вследствие чего, собственно, возникают трудности в преодолении номинализма? Вследствие чего возникло все кантианство? - Вследствие того, что обычно происходит следующее. Берется мир восприятий внешних чувств, его наблюдают, и через душевную жизнь человека распространяют на него мир идей. Так или иначе, получило хождение воззрение, что этот мир идей должен, якобы, отражать, отображать внешние восприятия. Но ведь мир идей пребывает во внутреннем. Какое отношение имеет этот, ощущаемый человеком в своем внутреннем, мир идей к тому, что есть там - вовне? На этот вопрос Кант мог ответить не иначе, как буквально следующим образом: "Мы набрасываем, "нахлобучиваем" (st?lpen) мир идей на мир восприятий внешних чувств и таким образом создаем, производим истину".
Однако дело обстоит совершенно не так. В действительности, если мы непредвзято наблюдаем внешнее восприятие, обнаруживается, что оно есть что-то незаконченное, незавершенное в себе. Уже вследствие того, что мы вступаем в мир, рождаемся в этом мире, мы, можно сказать, раскалываем содержание мира надвое - на восприятия, которые приходят к нам извне, и на мир идей, который предстает во внутреннем души. Просто вследствие того, что мы присутствуем в мире, он распадается для нас на мир восприятий внешних чувств и на внутренний мир идей.
Кто считает этот раскол чем-то абсолютным и просто говорит: здесь мир, а здесь я, - тому фактически нечего делать с его миром идеи в мире восприятий.
На самом же деле имеет место следующее. Я наблюдаю мир восприятий; он повсюду обнаруживает себя как нечто незаконченное, ему повсюду чего-то недостает. Но сам я, со всем своим бытием, вышел, выделился (bin herausgestiegen) из мира, который также принадлежит миру восприятий4. И вот, я вглядываюсь внутрь самого себя: то, что я усматриваю исключительно как собственное свое содержание, это и есть как раз то, чего недостает миру восприятий внешних чувств. Я призван соединить именно своим собственным существованием то, что мое "Я", вступив в мир, раскололо на две части. Можно утверждать, что таким образом я действительно вырабатываю, созидаю действительность. Вследствие того, что я рожден в мир, возникла видимость того, что единое распалось надвое - на мир восприятий и мир идей. Благодаря тому, что я живу, что я пребываю в становлении и развиваюсь, я вновь соединяю вместе, свожу воедино эти два потока действительности. В моем переживании познания я врабатываюсь в действительность. Я никогда не пришел бы к какому-либо сознанию, если бы своим вступлением в мир я не отколол бы для своего переживания (mir) мир идей от внешнего мира восприятий. Но я никогда не нашел бы и моста, ведущего в мир действительности, если бы то, что я отколол, выделил себе (mir) - мир идей, - если бы я вновь не привел это в единство с миром внешних восприятий, то есть с тем, что без этого мира идей как раз не было бы действительностью.
Кант ищет действительность лишь во внешнем восприятии и даже не подозревает о том, что есть другая половина действительности, и что она лежит именно в том, что мы несем в себе. То, что мы несем в себе как мир идей, мы имеем, оторвав это сначала от внешней действительности.
***
Так преодолевается номинализм. Теперь мы понимаем, что в акте познания мы возвращаем обратно внешнему восприятию то, что мы взяли, отняли от него, когда при нашем рождении мы вступили в чувственный мир, в чувственное бытие.
Таким путем человек может открыть своей душе доступ к духовному миру - сначала в чисто философской форме. Настоящее знание соединяет вместе внешние восприятия и мир идей; и это их соединение есть не что-то всего лишь понятийное, а реальный процесс, принадлежащий процессу мирового развития.
Здесь проблема человеческой индивидуальности вступает в область этики. Поскольку познание не есть всего лишь формальный акт, но само является реальным процессом, постольку этический, моральный поступок предстает как проявление того, что переживает человеческая индивидуальность в познании - этом реальном процессе становления, -переживает как интуицию посредством своей моральной фантазии. Это - этический индивидуализм, о котором идет речь во второй части "Философии свободы" и который фактически зиждется (хотя там об этом и не сказано прямо) на Импульсе Христа, действующем в человеке. Он зиждется на той свободе, которую человек завоевывает себе посредством того, что преобразует обычное мышление в такое, которое в "Философии свободы" названо чистым мышлением Оно восходит (erhebt), проникает в духовный мир и черпает оттуда побуждения (Antriebe) для моральных поступков, ибо там возвышается, одухотворяется то, что обычно связано с человеческой телесностью, - импульс любви. И в нравственных идеалах могущественно проявляется сила духовной любви - именно потому, что эти идеалы черпаются (entlehnt werden) посредством моральной фантазии из духовного мира.
Кант отстаивал филистерский принцип долга (die Pflicht) и строгого подчинения ему. Но его отклонил уже Шиллер. "Философия свободы" должна была противопоставить этому принципу долга преображенное человеческое "Я", которое, развиваясь, достигает сферы духа и, возвысившись до этой сферы, начинает любить добродетель, а поэтому осуществляет добродетель на практике, ибо любит ее исходя из своего индивидуального существа. Все дело заключается в самом серьезном преображении, превращении человеческой души, - в действительном наполнении ее, да и вообще мыслительной жизни, Христовым импульсом. Познавательная жизнь становится реальным фактором мирового становления, но только разыгрывающимся на арене человеческого сознания (как я стремился это показать в книге "Основные черты миросозерцания Гете"). Однако то, что происходит на арене человеческого сознания, есть в то же время мировой процесс, есть то, что свершается в мире. И это такое свершение, которое движет вперед мир, а также и нас самих внутри этого мира. Это действует одновременно как формирующее нас начало, и мы познаем то, что в нас - бессмертно, вечно. Познание существует вовсе не для того, чтобы служить отображением внешнего мира; оно существует для того, чтобы служить нашему развитию; отображение же внешнего мира в познании - всего лишь побочный процесс.
***
Так что можно сказать: современная духовная наука есть своего рода новое воплощение того значительнейшего, что было сначала выработано в Средневековье, - преображенного томизма, вместившего в себя все самое достойное из достигнутого в человеческом развитии за время с ХIII-го столетия до настоящего времени.
В XIII веке еще не могли обрести в мире идей христианский принцип спасения, искупления (Erl?sungsprinzip); поэтому этот мир идей противопоставляли миру религиозного откровения. Дальнейшим продвижением в будущее для человечества должно явиться то, что принцип искупления обретается не только для внешнего мира, но что его обретает [сам] человеческий разум. Не достигший искупления человеческий разум не мог самостоятельно (nur allein) подняться в духовный мир. Обретший же искупление, имеющий действительное отношение к Христу человеческий разум, - такой разум вступает в духовный мир.
Проникнуть в духовный мир в этом смысле - это и есть христианство сегодняшней эпохи. И это столь мощное христианство, что оно пронизывает до внутреннейших фибр то, что является человеческим мышлением, человеческой душевной жизнью. Это - не "пантеизм" и это не имеет совершенно ничего общего со всем тем, что могут сегодня измышлять [в адрес духовной науки], это - сама серьезность христианства. И может быть, именно теперь, когда христианству на самом деле грозит утратить себя в абстрактной области, именно теперь на этом рассмотрении философии Фомы Аквинского можно убедиться, насколько серьезно духовная наука воспринимает проблемы европейского духовного развития, однако хочет притом всегда стоять на почве современности.
***
Эти соображения были высказаны, чтобы попытаться убедительно показать: в высокой схоластике ХIII столетия явилась подлинная кульминация развития европейского духа, и нынешняя эпоха имеет все причины вникнуть в особенное существо этого феномена европейской духовной истории. Мы можем бесконечно многому учиться, вникая в это существо, учиться прежде всего тому, в чем нуждаемся в самой значительной мере: углублению нашей идейной жизни, - чтобы мы одолели всяческий номинализм, чтобы через пронизание наших идей Христовым началом (durch die Durchchristung) мы обрели то христианство, что проникает в само духовное бытие, из которого, ведь, все же должен происходить человек. Ибо, если он совершенно честен и искренен по отношению к себе самому, его не может удовлетворить ничто другое кроме сознания своего духовного происхождения.
Примечания к лекции:
* в квадратные скобки заключены слова, отсутствующие в оригинале и введенные при редакции перевода с целью возможно более ясного или связного звучания данного места в полном соответствии с контекстом.
1 Кант в своем публичном выступлении 7 августа 1799 года назвал "Наукоучение" Фихте, вышедшее в 1795 году, совершенно ошибочной системой; Фихте в ответ обозвал Канта человеком "всего лишь с тремя четвертями головы".
2 Углубленному осмыслению этой коллизии в историческом становлении европейского мышления, описанной выше, можно сказать, во внешне-гносеологическом ключе, может послужить сообщение Рудольфом Штейнером одного из важнейших оккультных аспектов этого становления в его книге "Тезисы антропософии":
"Вплоть до IX века после Мистерии Голгофы человек стоял в ином отношении к своим мыслям, чем позднее. Он не имел ощущения, что он сам производит мысли, живущие в его душе. Он рассматривал их как некие внушения духовного мира. Также и тогда, когда он имел мысли о том, что он воспринимал своими внешними чувствами, мысли были для него откровениями божественного, говорящего ему из чувственных предметов.
Это ощущение понятно тому, кто обладает духовным видением. Ибо когда духовно реальное передается душе, никогда не бывает чувства: вот - духовное восприятие, и ты сам образуешь мысль, чтобы понять это восприятие; но лицезреют мысль, содержащуюся в восприятии и данную вместе с ним столь же объективно, как само восприятие.
С наступлением IX века (само собой разумеется, что здесь указывается на некую среднюю дату; переход совершается совсем незаметно) в человеческих душах воссияло лично-индивидуальное разумение. Человек обрел чувство: я образую мысли. И это образование мыслей стало господствующим в душевной жизни, так что мыслители стали усматривать сущность человеческой души в разумном образе действия. А прежде о душе имели имагинативное представление, усматривали ее сущность не в образовании мыслей, но в ее причастности к духовному содержанию мира. Сверхчувственных духовных существ представляли себе мыслящими; и это их деяние проникает в человека, они мыслят также и в нем. То, что таким образом из сверхчувственного духовного мира живет в человеке, ощущали как душу.
Как только поднимаются со способностью восприятия в духовный мир, встречаются с конкретными духовными силами как с существами. В древних учениях ту силу, из которой проистекают мысли, имеющиеся в вещах мира, обозначали именем Михаэль. Это имя может быть сохранено. Так что можно сказать: некогда люди воспринимали мысли от [Архангела] Михаэля. Михаэль правил Космическим разумом (Intelligenz). Начиная с IX века люди перестали ощущать, что это Михаэль инспирирует им мысли. Мысли выпали из области его господства; они выпали из духовного мира в индивидуальные человеческие души.
С тех пор в человечестве стала развиваться мыслительная жизнь. Поначалу люди не чувствовали достоверности в том, что они имеют в мыслях. Эта неуверенность сквозила в учениях схоластики. Схоластики разделились на реалистов и номиналистов. Реалисты, во главе которых были Фома Аквинский и близкие ему мыслители, еще чувствовали древнюю сопринадлежность мысли и вещи. Поэтому они видели в мыслях нечто реальное, живущее в вещах. Мысли человека они рассматривали как нечто такое, что как действительность перетекает из вещей в душу. - Номиналисты же интенсивно переживали: душа образует свои мысли. Они ощущали мысли как нечто лишь субъективное, живущее в душе и не имеющее никакого отношения к вещи. Они полагали: мысли суть всего лишь имена, составленные человеком для вещей. (Тогда говорили не о "мыслях", а об "универсалиях", но это не имеет принципиального значения, ибо мысли ведь всегда имеют в себе нечто универсальное по сравнению с отдельными вещами).
Номинализм выиграл в распространении и во влиянии. Так могло продолжаться до последней трети XIX века. В это время те люди, которые ориентировались в восприятиях духовных свершений во Вселенной, ощутили, что Михаэль двинулся [сам к человеческим душам] вслед за потоком мыслительной жизни.
<...> Образование мыслей [самим человеком] по своей собственной сущности не есть развитие в материалистическом направлении. То, что в древние эпохи подступало к человеку в инспирации - мир идей, - стало собственностью человеческой души. Она больше не получает идеи "свыше", из духовного содержания Космоса; она активно извлекает их из собственной человеческой духовности. Тем самым человек созрел для того, чтобы осмыслить собственную духовную сущность. Прежде он не достигал этой глубины собственного существа. Он видел тогда в себе, до известной степени, каплю, выделившуюся из моря космической духовности для земной жизни, чтобы после нее опять соединиться с космической духовностью.
Образование мыслей, происходящее в [самом] человеке, является шагом вперед в человеческом самопознании. Положение вещей, если исследовать это на сверхчувственном плане, представляется следующим. [Некогда] духовные силы, которые можно обозначить именем Михаэля, правили в духовном Космосе идеями. Человек переживал эти идеи, участвуя своей душой в жизни Михаэлического мира. Ныне [содержание] это[го] переживания стало его собственностью. Из-за этого наступило временное отделение человека от Михаэлического мира. Вместе с инспирированными мыслями прежних времен человек одновременно получал духовное содержание мира. С того времени как эта инспирация прекратилась и человек образует мысли посредством собственной деятельности, его внимание направляется на восприятия внешних чувств, чтобы иметь некое содержание для этих мыслей. Так человек должен был обретенную духовность сперва наполнить материальным содержанием. Он подпал материалистическому воззрению в эпоху, поднявшую его собственное духовное существо на более высокую ступень, чем предшествовавшие эпохи".
(Цит. по изданию: Р. Штейнер. М.: Антропософские руководящие положения, 1996. С.53-54; 58-59).
3 См. соответствующие современные издания в русском переводе: Москва: Издательствово Московского центра вальдорфской педагогики, 1992; Москва: Изд-во "Парсифаль", 1993; Ереван: "Ной", 1993.
4 В данном случае, вероятнее всего, имеется в виду мир пред-существования, как оно упоминалось уже в тексте, т.е. мир, из которого в результате земного рождения и вышла, "выделилась" душа, - мир, столь же реально воспринимаемый духовным исследователем, что и внешне-чувственный. - (А.К.)